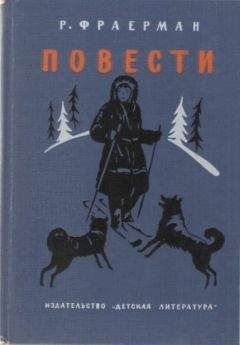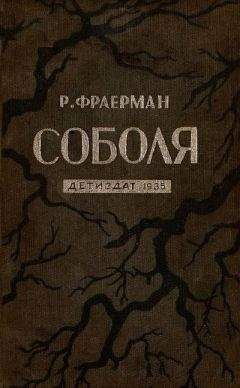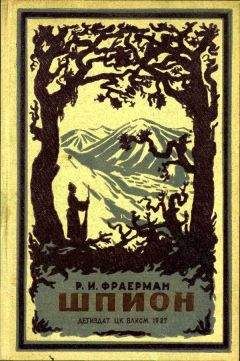Заходило солнце. Не кричали птицы. Без шума взбегали на сопку еловые леса.
Неужели здесь, в этой необычайной тишине, происходила страшная погоня?
Ти-Суеви думал об этом, осторожно шагая вслед за Наткой.
Да, здесь. Лицо Натки распухло, и на руках еще свежи были царапины, и собственные туфли Ти-Суеви были пробиты сучками насквозь.
— Хорошо, что его поймали, — сказал Ти-Суеви. — Ведь это — внук Лихибон. Он не мальчик, не сумасшедший и вовсе не болен проказой.
Натка молчала.
Она шла медленно, прислушиваясь и словно ожидая, не покажется ли снова враг. Но кругом было тихо. И только издали доносилось слабое шипение океана.
Ти-Суеви тронул Натку за плечо.
— Ты слышишь, внук Лихибон не был болен проказой, — повторил он. — Это был враг.
И, как всегда, Натка ответила не так, как ожидал Ти-Суеви. Но она сказала то, чего он так сильно желал.
— Хорошо тут у вас жить, Ти-Суеви, — вдруг сказала она.
Он посмотрел ей в лицо.
Она говорила правду.
Тогда Ти-Суеви опустил глаза к земле. Он улыбнулся. Он взял руку Натки в свою и снова оставил, чтобы забежать вперед и отшвырнуть ногой несколько острых камней, лежавших на ее дороге.
Они вышли на берег.
Навстречу им из Тазгоу шла с красноармейцем Лихибон. Деревянные башмаки ее стучали по гальке, жесткие волосы поднимали на голове платок и развевались по ветру.
Она уже не собирала ни камней, ни молодой крапивы для своего поросенка. И даже тонкая морская трава, даже морская капуста, выброшенная волною на берег, не привлекала ее внимания.
Она прошла близко, посмотрев на Ти-Суеви смутным взором.
И Ти-Суеви не посторонился.
Он запел веселую песенку.
А это вовсе не то, что следует делать, когда встречаешь на дороге старуху.
Дети двинулись дальше по берегу, к бухте. Они шли, а у ног их, как на цепях, качался и тихонько скрипел океан.
Ворчал прибой, катаясь по твердому песку, журчал на гравии, ворочался меж высоких и низких скал.
И, шагая вдоль границы прибоя, Ти-Суеви думал о том, что теперь, пожалуй, он не станет разводить в Тазгоу арбузы, если Натке и без них здесь жить хорошо.
Сергей Владимирович Михалков
Шпион
Он, как хозяин, в дом входил.
Садился, где хотел.
Он вместе с нами ел и пил
И наши песни пел.
И нашим девушкам дарил
Улыбку и цветы,
И он со всеми говорил,
Как старый друг, «на ты».
Прочти. Поведай. Расскажи.
Возьми меня с собой.
Дай посмотреть на чертежи.
Мечты свои открой.
Он рядом с нами ночевал,
И он, как вор, скрывал,
Что наши ящики вскрывал
И снова закрывал.
И в наши шахты в тот же год
Врывалась вдруг вода.
Горел химический завод,
Горели провода.
А он терялся и дрожал,
И на пожар бежал,
И рядом с нами он стоял,
И шланг в руках держал.
Но мы расставили посты.
Нашли за следом след.
И мы спросили:
— Это ты?
И он ответил: «Нет».
Мы указали на мосты,
На взрыв азотной кислоты,
На выключенный свет.
И мы спросили:
— Это ты?
И мы сказали:
— Это ты!
Но трус ответил: «Нет».
— Гляди, и здесь твои следы, —
— Сказали мы тогда:
— Ты умертвить хотел сады,
Пески оставить без воды
Без хлеба — города.
Ты в нашу честную семью
Прополз гадюкой злой,
Ты предал родину свою.
Мы видим ненависть твою.
Фашистский облик твой!
Ты занимался грабежом,
Тебе ценой любой
Твои друзья за рубежом
Платили за разбой.
Чтоб мы спокойно жить могли.
Ты будешь стерт с лица земли!
Есть в пограничной полосе
Неписанный закон;
Мы знаем все, мы знаем всех:
Кто я, кто ты, кто он.
Чтоб в нашу честную семью
Не проползли враги,
Будь зорче! Родину свою,
Как око, береги!
Будь рядовым передовым
Бойцом.
Чекистом,
Часовым!
Иван Батурин
Коричневая пуговка
На маленькой станции, почти скрытой лохматыми ветвями сосен, в вагон вошел пассажир. На нем был стального цвета плащ, в руке — чемодан. Он был усталый, сонный, точно без отдыха прошел большой путь. На его щеках топорщилась давно не бритая рыжеватая щетина.
Пассажир, положив вещи на свободное место, по-матроски, враскачку, подошел ко мне. Глубоко и шумно вздохнув, он с восторгом произнес:
— Какой чудный воздух, — нектар!
— Сибирский, ягодный.
Поезд огибал деревню. По дороге с граблями, туесками шли девушки, они протяжно пели:
«На сторонушку родную
Ясный сокол прилетел…»
Пассажир поспешно выглянул в окно, но, зацепившись за оконницу коричневой, блестящей, как жук, пуговицей, быстро выпрямился и громко воскликнул:
— Какая интересная песенка!.
— Народная, — сказал я.
— Да, — живо подхватил мой собеседник. — Между прочим, песня — моя страсть. А бы любите музыку? Я утвердительно кивнул головой.
— Вы, наверное, сибиряк? Хотите, я вам сыграю старинную сибирскую песенку?..
Не дожидаясь ответа, мой сосед открыл футляр и вынул новый баян. Распахнув полы плаща, он по-ухарски запрокинул голову, провел пальцами по перламутровым ладам и хриповато запел:
«Глухой, неведомой тайгою.
Сибирской дальней стороной…»
Мягкие, полные тоски звука заполнили вагон. Возле нас столпились пассажиры. Мой сосед, польщенный вниманием, стал исполнять русские классические произволения. Его лицо то хмурилось, то оживлялось.
Когда пассажиры разошлись по своим местам, баянист, вытирая платком лицо, спросил:
— Ну, как?
— Хорошо. Вы мастер.
Он задумался на минуту и, как бы про себя, сказал:
— Музыка — это жизнь. В ней все: слезы, огонь, гром… Вы знаете, как играл Паганини? О, это был замечательный скрипач!
Хотелось спать. Геолог, подвернув под голову руку, прислонился к стенке и, полузакрыв глаза, украдкой, испытующе смотрел на меня. В полночь, проснувшись от сильной качки вагона, я взглянул на геолога и удивился — его веки по-прежнему были полуоткрыты. Что за странная привычка?
Когда забрезжил серенький рассвет, я поднялся и хотел ещё раз взглянуть на соседа, но место напротив меня было