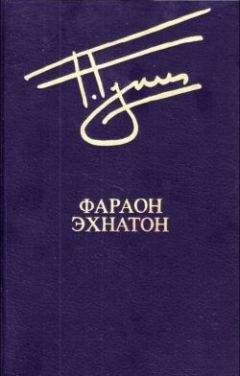— Как жизнь? Как там у вас в общежитии?
— Ничего.
— Да проходи, чего ты стесняешься? Ты по делу или так?
— Поговорить хотел… Я — потом.
— Почему потом? Давай поговорим.
Алексей не хотел говорить с Аловым. Опять напишет ерунду, как в прошлый раз…
…Прошлый раз Алов застал Алексея в общежитии одного, ребята ушли во Дворец культуры. В приоткрытую дверь было слышно, как, шаркая, ходит по коридору тетя Даша, громко вздыхает и на что-то жалуется сама себе. Алексей устал после работы — это было в те первые недели, когда он один остался у плиты, — идти никуда не хотелось, книги под рукой не было, и он валялся на койке просто так: глядя в потолок, заново переживал незначительные, но тогда казавшиеся очень важными происшествия дня.
В комнату вошел длинноволосый желтоглазый парень, бегло огляделся и сел.
— Привет, — сказал он. — Я сотрудник заводской многотиражки Юрий Алов. Вы здесь один? А где остальные?
Алексей приподнялся, сел на койку.
— Ушли.
— Тогда побеседуем с вами… Как тебя зовут? Кем работаешь? — Алексей сказал. — Ну, как вы тут живете? Меня, собственно говоря, интересует жизнь в общежитии, так-скать, быт, культура и прочее…
Алексей рассказал всё начистоту, желтоглазый старательно записывал, потом сказал, чтобы Алексей следил за газетой, и ушел.
Через неделю Виктор положил перед ним на плиту номер газеты и прихлопнул ладонью:
— Во как тебя расписали…
Статья начиналась так:
«У входа в молодежное общежитие нас встретил высокий юноша с напористым, энергичным выражением лица. Это был недавний воспитанник трудовых резервов, теперь разметчик ремонтно-механического цеха А. Горбачев. Мы разговорились.
В задушевной беседе юный представитель рабочего класса поведал нам о своем житье-бытье, о том, как проводит наша молодежь время в общежитии, как неустанно работает над собой, повышает свой культурный уровень…»
Дальше, будто бы от имени Алексея, в статье говорилось, что в общежитии скучно, не проводятся беседы и лекции, нечем культурно развлечься: нет шашек и шахмат. В заключение автор добавлял от себя, что «АХО и завкому профсоюза не мешало бы проявлять больше заботы и теплоты о молодом поколении рабочего класса».
В общем, всё было правильно, но говорил Алексей совсем не то и не так, и ему было неловко, как-то даже стыдно читать те слова, которые Алов приписал ему.
Поначалу статья возымела действие. Дня через три комендант, он же завхоз Яков Лукич, выдал тете Даше занавески на окна, а сам принес и торжественно положил на стол складную шахматную доску, в которой побрякивали фигуры.
— Вот, — сказал. — Под вашу ответственность. В случае чего — пишите куда хотите… писатели сморкатые.
— Так это ж не мы, Як Лукич, — сказал Костя Поляков, — это из газеты… А он ещё, между прочим, писал, чтобы проявить побольше теплоты. Как бы уголька, Як Лукич, подкинуть, а?
— У меня не Донбасс, а норма — два ведра в сутки. Не расхлебянивайте дверь, вот и тепло будет.
Ещё через день прислали лектора. Яков Лукич собственноручно открыл запертый всегда красный уголок. Долго ожидали, пока соберутся. Лектор стоял в коридоре и курил, отмахивая рукой дым ото рта. Собралось человек двадцать, почти одни девушки. Ребята заранее сбежали во Дворец культуры: там тоже была лекция, но после неё обещали показать кинофильм, и все надеялись, что будет четвертая серия «Тарзана».
— Что ж, начнем, — сказал лектор и прошел к столу. — Тема моей лекции — «Было ли начало и будет ли конец мира». Итак, приступим…
Он вынул тетрадку, поднес к глазам и начал читать.
Девушки томились. Их совершенно не интересовало начало мира, и по молодости они были твердо убеждены, что никакого конца его быть не может. Они собирались идти на танцы, а тут позвали на лекцию, отказаться было неудобно, а уйти посреди лекции ещё неудобнее. Они томились и шушукались.
В уголке подремывала тетя Даша. Слушать лекцию её не звали, но она должна была запереть уголок, когда всё кончится. Можно было бы попросить девчат, но они могли забыть, и тогда Яков Лукич, который каждое утро обходил пятиэтажку и лез во всякую щелку, долго бы срамил её, а потом повесил бы бумажку с «на вид». Бумажка пустяковая, а там кто её знает… Нет уж, лучше подальше от всяких бумажек! Лучше уж дождаться и самой запереть. Кроме портрета Сталина, стола и скамеек, в красном уголке ничего не было, никто бы этого не украл, а всё-таки береженого, говорят, и бог бережет…
Алов забежал в общежитие, удовлетворенно покивал, увидев занавески и шахматы, записал, какая была лекция. Потом в газете появилась заметка «По следам наших выступлений», в которой говорилось, что культурно-бытовое обслуживание в общежитии резко улучшилось, налаживается культурно-массовая воспитательная работа.
Лекций больше не было, и о них никто не тосковал. Мишка Горев нечаянно прожег папиросой дырку в занавеске. Яков Лукич заметил и приказал тете Даше убрать занавески в кладовую.
— Я — лицо материально ответственное, — в несчетный раз сказал он, — моё дело, чтобы вещь была в целости и сохранности… А на вас разве напасешься?
Никакой материальной ответственности он не нес; если вещь изнашивалась или ломалась, она актировалась и списывалась. Но Яков Лукич не мог видеть равнодушно никакой порчи или ущерба, и так как вещи лучше всего сохранялись в кладовой, он предпочитал оттуда их не выпускать. Обходились так? Ну и дальше обойдутся.
А потом запропастился черный король. Ребята слепили нового из хлеба и даже покрасили его, но Яков Лукич и тут углядел.
— Это что? — спросил он, тыкая пальцем.
— Король, Як Лукич…
— Самоделошный? А где казенный король?
— Закатился куда-то.
— Ага! — зловеще протянул Яков Лукич. — Закатился? Ну, всё! Королей я сам не делаю, короли денег стоят, — сгреб шахматные фигуры и унес.
Тем всё и кончилось, если не считать того, что ещё долгое время ребята донимали Алексея цитатами из статьи. Особенно изощрялся Костя Поляков.
— Слушай-ка, представитель молодого пополнения, поведай нам — нет ли у тебя трешки? А то, понимаешь, шибко охота поработать над собой, а на чекушку не хватает…
Или иногда, облокотившись о стол, он долго внимательно разглядывал Алексея и очень серьезно просил:
— Алеша, у меня к тебе большая просьба: сделай, пожалуйста, энергичное выражение лица… Только понапористей!
Алексей полушутя, полусерьезно тузил и Костю и других, но они только ржали, как жеребцы, и продолжали его поддразнивать, пока им самим не надоело…
…— Так в чем дело, молодой человек? — спросил Алов и спрятал зеленую папку в стол.
Алексей замялся. Этот Алов и теперь мог написать какую-нибудь чепуху… Но, в конце концов, он ведь написал тогда правду? Толку не было, верно. Но сейчас какой, собственно, нужен толк? Напишет правду — и всё. А больше ничего и не нужно. Все, и Витька, конечно, тоже, поймут, что это показуха и очковтирательство…
Слушая Алексея, Алов прикидывал. Конечно, можно бы сделать заметку о дутых передовиках. Тут Горбачев прав, такие есть… Но, во-первых, редактор ругался уже не один раз: «Хватит, понимаешь, этой критики! Надо поднимать дух, воспитывать на положительных примерах, а не критиканством заниматься!..» А во-вторых, в столе лежала зеленая папка. На обложке её каллиграфически была выведена надпись — «Опережая время» и подзаголовок — «Опыт передовика производства В. Гущина». Все листы в папке были ещё девственно чисты, но на них незримо было записано его, Юрия Алова, будущее: деньги, слава и, кто знает, может быть, Киев или даже Москва… И всё может обратиться в ничто из-за этого парня, на которого он не пожалел тогда в очерке своих лучших образов и мыслей…
— Так, так, молодой человек, — сказал Алов, выслушав Алексея. — Хорошо, что ты пришел ко мне… Сам я этого вопроса решить не могу, мы посоветуемся с редактором… А пока — желаю успеха!
Как только дверь за Алексеем закрылась, Алов снял телефонную трубку.
Алексей пришел раньше назначенного часа. Он всегда приходил раньше. Не потому, что боялся опоздать. Чтобы без помехи подумать. О ней он думает постоянно. Она во всём. В том, что он думает, говорит, делает. Если бы не было её, всё было бы иначе. Как? Неизвестно. Только совсем иначе. Но она есть. И самое важное, что она — есть. Всё другое тоже важно, но не так, по-особому. А она — всячески. Значит, вот это и есть любовь?
Почему он полюбил именно её? И именно теперь. Не теперь, уже давно — больше года, но все-таки… Раньше ведь не любил. Раньше она ему просто не нравилась. Была просто себе девчонка. Некрасивая девчонка. Угловатая, голенастая, рот большой… И как мальчишка. Сдачи могла дать кому угодно, ничего не боялась. Бояться-то она и сейчас ничего не боится. Только совсем переменилась. Очень красивая стала? Если разобраться, ничего особенного. Глаза? Они и тогда были большущие. И волосы так же поднимались волнистой шапкой. Ну, выше стала, выросла — дело же не в росте. Каким-то непонятным образом угловатость превратилась в стройность и… стремительность. Это что-то такое в лице, в глазах. Они будто всё время летят. Распахнуты навстречу всему. И летят…