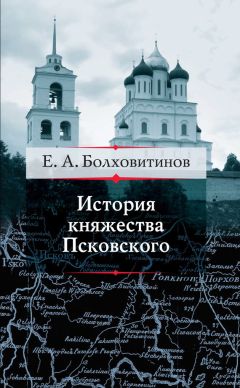— Пожрать, Вьюнок, нету ничего. Приходится табаком пробавляться.
— Сейчас принесут ребята.
— Я проспал. Сторожил вчера девчонку всю почти ночь…
Вьюнок заинтересовался, спросил:
— Что ж она? Ревет все?
— Да, кабы ревела… — вздохнул Пыляй.
— А что ж?
— Ничего.
Пыляй мечтательно опрокинулся на спину и, глядя в небо, как в книгу, таящую неведомые ему тайны, прибавил:
— Стеклы, говорит, есть такие, что и за десять верст человека видно… Или на звезды смотреть. А блоха, говорит, как зверь под стеклом. Может это быть, Вьюн, как по-твоему?
— Это все совершенно может быть, — подтвердил тот без колебаний, — теперь на свете все может быть. Я в кинематографе был, не то что в стекло глядеть…
Пыляй вздохнул еще глубже.
— А я ничего не видал.
Он вдруг поднялся и с гневной энергией заговорил, не глядя на своего собеседника:
— А мы ничего не видим, ничего не знаем. Только и осталось — сжигать нас. А которые вот живут в домах и им не ездить зимой в Ташкент или куда. В домах тепло. И вон какие у них стеклы. Зубы у ней не болят, потому что она их с мелом моет. На всякое дело у них приспособление. Девчонка вон какая — клоп, а огрызается, как собака. Щука, говорю, девчонка. Мне бы это все знать, что она… Это кто бы со мной сладить мог? Никто!
Вьюнок слушал молча, с любопытством, но видимо не понимал того, что за словами горело в Пыляе. И Пыляй это заметил, перестал говорить. Только мусоля раскрутившуюся цигарку, прошипел он с тоской и отчаянием:
— А и скушно мне, страсть. Опостылело мне тут: крысы лучше нашего живут. А разве мы не такие же, как те? Все одинакие. Тоже я не виноват, что матка померла, а отец все сжег. И руки себе сжег.
Он гневно сунул в рот цигарку, спросил;
— Спички есть?
Вьюнок швырнул ему спички и промолчал. Пыляй задымил, закашлялся, с бранью выплюнул горчайший яд никотина.
— Курильщик! — прошипел Вьюнок презрительно, — тебе бы булочку с молочком, а не курить!
— А ты-то что очень?
— Ничего.
— То-то и есть.
Они помолчали; привыкнув к дыму, Пыляй докурил поскорее папиросу и с достоинством затоптал окурок.
— Я думаю, что если б тебя взял какой буржуй в дом, да стал булками напарывать, ты бы не отказался.
Вьюнок не промедлил ответом;
— Дурак был бы, кабы отказался. Это не приют. Сапоги шить учить не будут.
Пыляй почувствовал какой-то гнетущий холод внутри. Не то шел он от сырых стен, не то веял от слов товарища, не то несся от подвала шатровой башни вместе с призраком прошедшей ночи.
— Даром он бы тебя не взял, — раздумывая продолжал Пыляй, — а заставил бы товарищей подвести.
Вьюнок рассмеялся.
— Я бы его подвел, а не товарищей. Пожил бы у него, подглядел бы, где он деньги прячет… Стянул бы и ушел. Ищи-свищи ветра в поле.
Пыляй вздохнул.
— И ничего бы толку с деньгами не сделал. Вез носов бы все остались, все бы каин нюхать стали. Водкой бы обжирались, пирожными, конфетами, а под ногтями все равно бы грязь была хоть с какими деньгами.
Вьюнок посмотрел на него с подозрительным недоумением. Этот взгляд смутил Пыляя. Он забормотал о болезнях и запутался совсем. Вьюнок рассматривал его с неменьшим вниманием, чем тот так недавно — девчонку.
— Это ты что это?
— Это я так.
— Нет не так, — с каменной холодностью отрезал Вьюнок, — а глядишь ты вредно и говоришь чудно. У тебя не тиф ли наклевывается, Пыляй?
— Нет, не тиф!
— А что?
— Ничего, говорю! Что прилип?
Пыляй опрокинулся на спину и мечтательно закрыв глаза вытянулся во весь рост.
— Скучно мне тут. Как животная в хлеву — я. А можно и на небо глядеть в стеклы и можно, чтоб зубы не болели. Про разные такие штуки слыхал я раньше, а не верил — брешут много. А девчонка вот — живая такая. Да ведь словом этого не сказать. Если бы я ученый был, я бы тебя словом прошибить мог. А у меня слов нету.
Вьюнок следил за ним внимательно, но слушал его путаную речь, как бред. В темных, сырых подвалах, в холоде, грязи и голоде, мальчишки заболевали часто и удивляться тут было бы нечему, но Вьюнок все-таки дивился необычной болтовне больного.
— Девчонка — клоп, а какие слова у ней, точно из решета вода, так и хлещет. Как они там в домах живут? Ты не видал?
— Не видал!
— Вот то-то и есть. А она, может, через свое стекло глядит сейчас на нас и все видит. Вот это дело. Это не животная в хлеву, как я. Пожрал, да спать. Выспался, да пожрал. Этак и коровы могут, а вот ты по-другому сумей!
— Зачем? — оборвал Вьюнок.
Пыляй приподнялся, посмотрел на него с некоторой растерянностью, потом, оправившись — с гневом и презрением.
— Дурак ты, Вьюн!
Мальчишка расхохотался неожиданному ответу и, не сердясь, спросил:
— А ты?
— А я тоже дурак, животная в хлеву!
Вьюнок насупился:
— К чему ты плетешь все это?
Пыляй рассердился:
— К тому, что за деньги только жрать да пить. А на свете еще есть разные такие штуки…
— Какие?
— А вот там, у них, которые в домах живут…
— Ты откудова знаешь?
— Постарше тебя, вот и знаю.
Пыляй поиграл мускулами голых в прорехах рубахи рук и слова его, подкрепленные этим жестом, подчеркивавшим не только старшинство, но и силу, показались Вьюнку убедительными. Он замолчал.
Пыляй не возобновил разговора. Наоборот, он весь день пристально следил за собой, боясь проговориться. Но чем больше он сторонился от товарищей, тем пристальнее приглядывался он к домам, окнам, дверям и исчезавшим за ними ребятам.
Перед вечером он выспался за ночь. В сумерки Коська угощал ребят на три рубля, вырученные от продажи примуса. Ближайшим своим сподвижникам он сунул каждому в рот на две секунды бутылку с водкой.
Пыляй с отвращением проглотил едкую, как горечь никотина, жидкость, храбро удержался от кашля и корчей, и победоносно покосился на Вьюнка, к которому перешла бутылка. Коська толкнул Пыляя:
— Будешь ты сторожить девчонку. Сегодня мы ночью с ней разделаемся.
Пыляй вздрогнул, но кивнул головой и буркнул:
— Посторожу. Я выспался здорово.
Вечером Коська проводил его до места. Пыляй остановился у лазейки.
— Может быть, мне с тобой лучше пойти?
— Нет, сиди тут. Я Вьюнка возьму.
Пыляй подчинился молча — с Коськой не приходилось спорить. Но спускался в сырой и темный подвал он без прежней твердости и спокойствия.
Глава шестая
Коська толкует с Чугуновым
Несколько мгновений Иван Архипович безмолвно смотрел на странного оборванца. Коська не мог не сжалиться над растерявшимся отцом: он потянул его за подол пиджака в двери и добавил снисходительно:
— Не на улице разговаривать будем, пойдем в квартиру, что ли?
Тогда оправившийся Чугунов впился в его плечи дрожащими пальцами и завопил:
— Где она? Где? Говори, мальчик!
— Там скажу.
— Да иди же, иди!
Толкая его вперед, тревожа сонных жильцов топотом ног, стуком дверей, вздохами нетерпения, Чугунов довел до своей комнаты нежданного гостя. Наталья Егоровна, открыв дверь, отступила в недоумении. Иван Архипович крикнул ей, подталкивая вперед мальчишку:
— Вот он, вот знает…
— Что?
— Он знает, где Аля…
Она скрестила на груди руки, ожидая, что скажет оборванец, оглядывавший комнату и хозяев. Коська прошел вперед, сел на стул к столу и повторил спокойно:
— Да, я знаю, где ваша девчонка!
— Где? Что с ней?
— Ничего, — мрачно ухмыльнулся он, — сидит, дожидается… Я вот и пришел, чтобы вас к ней провести…
— Так идем же, идем же, несчастный! — кинулся к нему Чугунов, — идем.
Коська отпрянул от его протянутых рук и хлопнул по столу ладонью:
— Деньги на бочку, товарищи!
— Какие деньги?
Иван Архипович отступил в недоумении. Наталья Егоровна взглянула на мужа испуганными глазами. Коська повторил свой жест.
— Деньги на бочку. За девчонку деньги! Сто рубликов, товарищи.
— Кому деньги? Кому, тебе?
— А кому же? Я ведь провожать пойду. Я ведь девчонку предоставлю.
Он нагло запрокинул голову, чувствуя себя победителем, и засмеялся негромко:
— Раскошеливайся, дяденька! Право слово, небольшой капитал — сто рублей.
К Чугунову вдруг возвратилось хладнокровие. Он шагнул к оборванцу с угрозой и, сдвинув брови, прошипел ему в лицо:
— Да я тебя, паршивца, сейчас в милицию отправлю… Если сам не оторву тебе головы, щенок!
Коська вскочил.
— Что?
— Говори, где девочка! — прогудел над ним несдерживавшийся от гнева отец, — говори!
Мальчишка отскочил к окну и поманил с усмешкой к себе Чугунова.
— Иди-ка, погляди сюда, дяденька!
Спокойный тон его и разбойничьи повадки заставили насторожиться. Иван Архипович, сжав губы, подошел. Тогда Коська, указывая на одиноко маячившую тень под воротами противоположного дома, сказал: