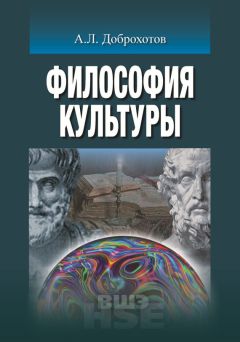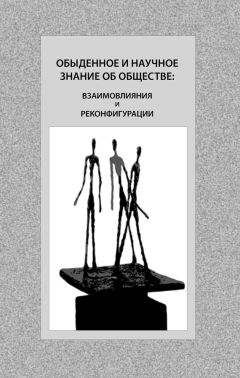Статус особой ветви знания придает культурологии Просвещение, провозгласившее своей задачей распространение идеалов науки, свободы и прогресса. Попробуем прояснить эту неслучайную связь, поскольку она будет сказываться и на дальнейшей истории культурологии. Принципиальна установка Просвещения на разум как высший авторитет в решении моральных, политических и практических задач. Императив разума необходимым образом связан с ответственностью его носителей – просвещенных граждан. Поскольку разум, освобожденный от предрассудков, является единственным источником знания, ключевой целью становится очищение разума. Здесь мы узнаем мотив, звучащий с самого начала Нового времени, с эпохи религиозных войн XVI в. и становления научного естествознания в XVII в.: овладение сознанием и наведение на его территории порядка – это вовсе не дело кружка праздных философов, это прямая обязанность ответственной части общества (т. е. в конечном счете власти). В XVIII в. оказалось, что реализовать эту программу можно благодаря союзу просвещенного абсолютизма с образованной общественностью. (Их отношения не заладились, и дело кончилось революцией, но проект оказался жизнеспособным, хотя сейчас, в свете исторической памяти, мы не склонны оценивать его с однозначным энтузиазмом.) Очищение разума требует знания о том, как устроена машина культуры – источник знаний, умений, добродетелей, но также и главный генератор предрассудков. «Просвещенческая» составляющая останется постоянным элементом в истории наук о культуре, поэтому для нашего обзора истории культурологических учений внутренняя структура Просвещения может служить одной из «матриц» объяснения тех процессов, которые нас интересуют.
Британия XVII–XVIII вв., осваивая открывшиеся возможности Нового времени, безусловно, лидировала в политическом и экономическом отношении, задавая образцы подражания более инертному и сложному миру континента. Теоретическое осознание культуры было подчинено этой практической динамике. Главными культурологическими темами английского Просвещения становятся эстетика, мораль и история. Доминирует в британской традиции стремление окончательно избавиться от средневековых универсалий и основать новую культуру на фундаменте здравого смысла и эмпиризма. Основная задача понимается как поиск корней всех идеалов и норм в «естественных чувствах». Показательна здесь эстетическая мысль, которая весьма основательно повлияла на континентальную культуру.
Идеи Э.Э.К. Шефтсбери (1671–1713), собранные в двухтомнике «Характеристики людей, обычаев, мнений и времен» (1714), репрезентируют первую версию понимания культуры в сформировавшемся английском Просвещении. По Шефтсбери, мир устроен Богом как гармоничная система связи частей и целого. Поэтому человеку дан для счастливой жизни надежный компас – способность стремиться к общему благу, что в конечном счете доставляет и благо личное. Шефтсбери выдвигает учение о «моральном чувстве», оказавшееся впоследствии одной из доминант британской мысли Просвещения. Моральное чувство не только побуждает выполнить долг, но и доставляет наслаждение от созерцания добродетели, что, в свою очередь, является источником красоты, а значит – искусства. Такое направление мысли позволило сформировать последователям Шефтсбери (Хатчесону, Юму и др.) целую программу пересмотра оснований культуры и выведения всех ее свойств и способностей из изначально доброго естества индивидуума, раскрывающегося в конкретном опыте.
Критиком этого оптимизма стал Б. Мандевиль (1670–1733), в своей аллегорической сатире «Басня о пчелах» (1717) смоделировавший человеческое общество как «улей», в котором властвуют эгоизм, обман, корысть, а за ними следуют все мыслимые пороки. Все заявленные людьми благие цели Мандевиль систематически разоблачает как лукавство или самообман. Однако именно эту морально дурную природу человечества Мандевиль считает реальным двигателем социальности и культуры. Более того, именно здесь скрыт источник цивилизационного прогресса. Логика Мандевиля проста: отдельный порок заставляет общество как систему уравновешивать его действие противодействием, что и стимулирует культуру в целом. (Так, если есть кражи, то есть и работа для слесаря, делающего замки, и т. д.) Он называет зло «животворящей силой» общественного порядка, да и самого добра, тогда как добра опасается из-за его расслабляющего и усыпляющего эффекта. При всех этих парадоксах Мандевиль понимает, что превратить пороки в добродетели может только разумная политическая власть, к назиданию которой и обращена его сатира.
Британские мыслители все же предпочли менее парадоксальную версию культурной динамики и подхватили идеи Шефтсбери. Ф. Хатчесон (1694–1746 или 1747) углубляет учение Шефтсбери о моральном чувстве и решительно отказывается искать его истоки во врожденных идеях, разумном эгоизме или божественных установлениях. Моральное чувство, по Хатчесону, есть непосредственная, инстинктивная реакция на факт и вытекающая из этого оценка. Как таковое оно не нуждается ни в рациональных, ни в мистических, ни в прагматических основаниях. (Однако избежать проблемы обоснования Хатчесон все же не в состоянии, и это побуждает его склониться к мягкой форме теологической версии.) Итоговый труд Хатчесона «Система моральной философии» (изд. 1755) расширяет эту интуицию до эстетических, психологических и политических сфер. Мир внутренних чувств оказывается безусловным фундаментом всей культуры. Этот путь понимания культуры как самодостаточного человеческого мира уводит от многих тупиков экстернализма, от выведения ценностей из внешних человеку данностей, но ставит вопрос о критериях различения моральной воли и произвола, который в рамках этого воззрения решить не удается.
Классикой британской версии Просвещения стали концепции Д. Юма (1711–1776), завершившего логическое развитие эмпиризма, и А. Смита (1723–1790), создателя политэкономии модернитета. В «Трактате о человеческой природе» (1739–1740) Юм, во многом следуя за Хатчесоном, осуществляет гораздо более радикальный демонтаж рационализма, оставляя во власти человека лишь способность ассоциировать внешние данные, создавая случайные, но практически устойчивые связи. Знание при этом приобретает статус веры, мораль – статус «диспетчера» аффектов, свобода – статус иллюзии, порожденной незнанием. Однако в эстетике (которую тогда называли «учением о вкусе» и «критикой») этот радикализм заметно смягчается, и в этом есть определенная логика. В старой культуре просветителям виделась система безжизненных догматических конструкций. За ними маячил призрак фанатизма, которому в свое время были принесены слишком большие жертвы. Пафос британского Просвещения в том, чтобы вернуть культуру к живой естественной конкретности, укоренить ее в «природе человека». Эстетическая сфера идеально отвечала этому замыслу: в ней непосредственно чувственное, эмоциональное соединяется с формальным и общезначимым. Поэтому просветители так много сил прилагают к разгадке феноменов прекрасного и возвышенного. Юм и идущий по его пути Смит считают, что человеку свойственна «симпатия»: способность сопереживать и сострадать. Эта способность выводит людей из замкнутости в себе и даже может делать из них альтруистов. Поэтому и человеческое общество созидается не долгом, не законом и не утилитарным договором, а естественным тяготением людей друг к другу. Симпатия может также соединять прекрасное и полезное: та целесообразность, которую можно в этом усмотреть, – своего рода переживание смысла – дает нам приятные чувства, собственно и составляющие эффект искусства.
Как ни странно, историческая мысль несколько отставала от моралистики и эстетики Просвещения. Но все же мы можем констатировать рождение в это время новой исторической науки, ориентированной на критику источников и исследование национальной истории. Движение от беллетризованного, назидательного повествования к причинно-следственному моделированию эпохи, от истории героев к истории народов, институтов и культуры не в последнюю очередь было связано с пересмотром и адаптацией опыта античных историков. Чрезвычайно показателен в этом отношении труд Э. Гиббона (1737–1794) «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). Рим – образцовое воплощение политической свободы, гражданской добродетели и могучей культуры – становится парадигмой для объяснения всех других «казусов» национальной истории. Классическое, понятое как типическое, позволяет строить объясняющие и прогнозирующие модели. Особо подчеркнутая Гиббоном концепция вредоносности христианства для античной культуры попадает в резонанс с антиклерикальными устремлениями эпохи. Тема усталости культуры и грозящего варварства, пронизывающая книгу Гиббона, также оказалась востребованной новоевропейским историческим сознанием, что не так уж парадоксально, поскольку открытие культуры как предмета научной мысли требует, чтобы эту предметность разместили не в заоблачном мире вечных ценностей, а в посюстороннем мире с его ритмами расцвета и упадка.