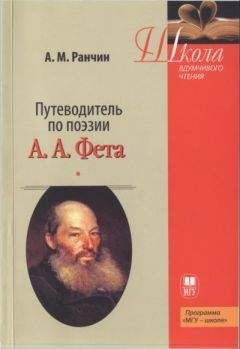Фетовские очерки были восприняты значительной частью русского образованного общества как сочинения замшелого ретрограда. На автора посыпались обвинения в крепостничестве. В частности, об этом писал в очерках «Наша общественная жизнь» М. Е. Салтыков-Щедрин, язвительно заметивший о Фете — поэте и публицисте: «<…> На досуге он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает, сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает» [Салтыков-Щедрин 1965–1977, т. 6, с. 59–60].
Сходным образом аттестовал публицистику автора «Шепота, робкого дыханья…» другой радикально настроенный литератор — Д. И. Писарев в 1864 г.: «<…> Поэт может быть искренним или в полном величии разумного миросозерцания, или в полной ограниченности мыслей, знаний, чувств и стремлений. В первом случае он — Шекспир, Дант, Байрон, Гете, Гейне. Во втором случае он — г. Фет. — В первом случае он носит в себе думы и печали всего современного мира. Во втором — он поет тоненькою фистулою о душистых локонах и еще более трогательным голосом жалуется печатно на работника Семена <…> Работник Семен — лицо замечательное. Он непременно войдет в историю русской литературы, потому что ему назначено было провидением показать нам обратную сторону медали в самом яром представителе томной лирики. Благодаря работнику Семену мы увидели в нежном поэте, порхающем с цветка на цветок, расчетливого хозяина, солидного bourgeois (буржуа. — А.Р.) и мелкого человека. Тогда мы задумались над этим фактом и быстро убедились в том, что тут нет ничего случайного. Такова должна быть непременно изнанка каждого поэта, воспевающего „шопот, робкое дыханье, трели соловья“» [Писарев 1955–1956, т. 3, с. 96, 90][71].
Престарелый поэт-«обличитель» П. В. Шумахер в сатирических стихах на празднование юбилея фетовской поэтической деятельности припомнил, хотя и неточно: «У Максима отнял гуся» [Шумахер 1937, с. 254]. О злополучных гусях либеральная и радикальная пресса помнила долго. Как несколько десятилетий спустя писал литератор П. П. Перцов, без напоминания о них «не обходились некрологи великого лирика иногда даже в видных органах» [Перцов 1933, с. 107].
Оценка Фета как крепостника и жестокосердого хозяина, отбирающего последние трудовые гроши у несчастных крестьян-тружеников, не имела ничего общего с действительностью: Фет отстаивал значение именно вольнонаемного труда, он пользовался трудом наемных рабочих, а не крепостных, о чем и написал в очерках. Владельцами гусят были состоятельные хозяева постоялых дворов, а отнюдь не истомленные полунищие хлебопашцы; писатель не самоуправствовал в отношении работников, а преследовал недобросовестность, лень и обман со стороны таких, как пресловутый Семен, причем часто безуспешно.
Как точно заметила Л. М. Розенблюм, «публицистика Фета <…> ни в малой мере не свидетельствует о грусти по ушедшей крепостнической эпохе» [Розенблюм 2003].
Однако можно говорить о другом — о настороженном отношении Фета к последствиям отмены крепостного права; что же касается идейных взглядов Фета, то они на протяжении пореформенного периода становились все более и более консервативными (среди поздних примеров — письмо К. Н. Леонтьеву от 22 июля 1891 г. с поддержкой идеи о памятнике ультраконсервативному публицисту М. Н. Каткову и резкой оценкой «змеиного шипения мнимых либералов» [Письма Фета Петровскому и Леонтьеву 1996, с. 297].
Новый род занятий, очерки и даже облик Фета, воспринимавшегося прежде как лирический поэт, витающий в мире прекрасного и чуждый меркантильным расчетам, рождали недоумение и вызвали отторжение или изумление[72]. Гордость Фета своими хозяйственными успехами оставалась непонятой[73].
Князь Д. Н. Цертелев заметил о Фете — поэте и Фете — авторе очерков об усадебном хозяйстве: «<…> Может показаться, что имеешь дело с двумя совершенно различными людьми, хотя оба они говорят иногда на одной и той же странице. Один захватывает вечные мировые вопросы так глубоко и с такой широтой, что на человеческом языке не хватает слов, которыми можно было бы выразить поэтическую мысль, и остаются только звуки, намеки и ускользающие образы, другой как будто смеется над ним и знать не хочет, толкуя об урожае, о доходах, о плугах, о конном заводе и о мировых судьях. Эта двойственность поражала всех, близко знавших Афанасия Афанасиевича» [Цертелев 1899, с. 218].
Радикально настроенные литераторы обратили внимание на этот разительный диссонанс между «чистым лириком», певцом соловьев и роз, и практичнейшим хозяином — автором очерков, старающимся не упустить ни копейки своих денег. Соответственно в минаевских пародиях форма (стихотворный размер, «безглагольность») ассоциируются с «чистой лирикой», хранят воспоминание о фетовском «Шепот, робкое дыханье…», а «приземленное» содержание отсылает к Фету-публицисту.
По крайней мере частью радикальной литературной среды эстетизм Фета-поэта, славящего любовь и «серебро <…> ручья», и общественный консерватизм были истолкованы как две стороны одной медали: только помещик-«кровопийца», обирающий крестьян, и может на досуге любоваться «дымными тучками» и утреннею зарей: сердце черствого эстета глухо к народному горю, а доходы землевладельца позволяют вести ему праздный образ жизни. (В реальности Фет в первые годы своей хозяйственной деятельности свободного времени почти не имел, пребывая в хлопотах и разъездах; но об этом его критики предпочли забыть.)
Уже само воспевание красоты в «Шепоте, робком дыханье…» дразнило противников Фета. Все они могли бы повторить вслед за Н. А. Некрасовым — автором поэтического диалога «Поэт и гражданин»: «Еще стыдней в годину горя / Красу долин, небес и моря / И ласку милой воспевать…». Поэтические достоинства Фета и, в частности, стихотворения «Шепот, робкое дыханье…» оппоненты поэта могли признавать[74], но они ощущали абсолютную неуместность «чистой лирики» в то время, когда требовались песни протеста и борьбы.
Ситуацию точно оценил противник радикальной литературы Ф. М. Достоевский, согласившийся, что появление стихотворения Фета было, мягко говоря, несколько несвоевременным: «Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения[75]. Половина жителей в Лиссабоне погибает; дома разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял — или имение, или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского „Меркурия“ (тогда всё издавались „Меркурии“). Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропащих без вести и проч. и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего: „Шепот, робкое дыханье…“ Не знаю наверно, как приняли бы свой „Меркурий“ лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья появилось в ту минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать „В дымных тучках пурпур розы“ или „Отблеск янтаря“, но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни».
Но далее следует разъяснение, и оценка меняется: «Заметим, впрочем, следующее: положим, лиссабонцы и казнили своего любимого поэта, но ведь стихотворение, на которое они все рассердились (будь оно хоть и о розах и янтаре), могло быть великолепно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за „пурпур розы“ в частности. Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и языка принесла, может быть, даже и немалую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения».
Итог рассуждения таков: «Какое-нибудь общество, положим, на краю гибели, все, что имеет сколько-нибудь ума, души, сердца, воли, все, что сознает в себе человека и гражданина, занято одним вопросом, одним общим делом. Неужели ж тогда только между одними поэтами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви к родине и сочувствия всеобщему благу? Служенье муз, дескать, не терпит суеты. Это, положим, так. Но хорошо бы было, если б, например, поэты не удалялись в эфир и не смотрели бы оттуда свысока на остальных смертных <…>. А искусство много может помочь иному делу своим содействием, потому что заключает в себе огромные средства и великие силы» (статья «Г-бов и вопрос об искусстве», 1861 [Достоевский 1978, т. 18, с. 75, 76, 77]).