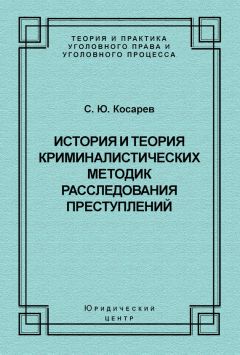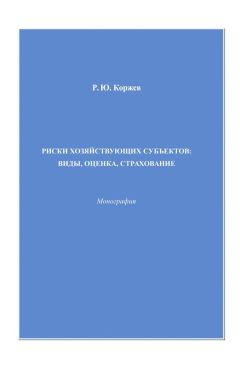О количественных показателях следственной работы[154] достаточно красноречиво говорит следующий факт. В 1846 г., например, в Санкт-Петербурге работало пятнадцать приставов следственных дел[155], а в Москве лишь шесть[156]. В таком крупном городе империи как Казань примерно в то же время работал только один пристав следственных дел – коллежский асессор П. И. Стародубов[157].
Постепенно совершенствовалась организация расследования преступлений, чему немало способствовал центральный аппарат МВД Российской империи, разрабатывавший различные правила и предписания по разным вопросам расследования отдельных категорий преступлений.
Особое внимание, как это видно из регулярно публикуемых ведомственным журналом обзоров правительственных действий МВД[158], уделялось расследованию групповых преступлений, в частности деятельности разбойничьих шаек, промышлявших на обширной территории страны. Например, в 1845 г. в соответствии с приказом («повелением») МВД в целях предотвращения сговора арестантов, прикосновенных к одному и тому же делу, было предписано таковых размещать раздельно в арестантских одиночных помещениях[159].
Организация расследования конкретных преступлений была, с современных позиций, несложна, хотя, наверное, нельзя сказать, что и современные следственные органы очень сильно ушли вперед в деле организации расследования незамысловатых преступлений.
Вот как, например, проводилось расследование по факту убийства, совершенного 6 апреля (по ст. стилю) 1846 г. в деревне Бельщина Юхновского уезда Смоленской губернии, где восьмилетний крестьянский мальчик отрубил ножом голову своему двухлетнему брату, а также причинил тому другие телесные повреждения. С целью сокрытия преступления братоубийца порезал себе передний хрящ на горле, а затем сообщил соседу крестьянскому сыну Борису, что на него и брата напали бродячие нищие. При расследовании этого убийства производились розыскные мероприятия по поиску нищих (однако «нищих по розыску не открылось»), медицинское исследование трупа лекарем (в том числе, на предмет определения прижизненности и посмертности телесных повреждений на теле убитого), были допрошены упомянутый Борис, мать и сестра мальчиков, а также другие соседи и сторонние понятые (т. е. проведен повальный обыск. – С. К.). Все показали, что никого в убийстве двухлетнего Ивана не подозревают, а об его брате Дмитрии единогласно «объявили, что он и от природы, и по избалованности покойным отцом, уже и прежде был замечен сердца злого». Малолетний же убийца впоследствии сознался, что никаких нищих не было, а преступление «сделал» он сам. Так убийство было раскрыто[160].
Еще один пример из следственной практики той эпохи.
24 июля (по ст. стилю) 1859 г. полицией была задержана и обыскана Марианна Кленас, имевшая при себе узел, наполненный разной одеждой. При допросе она призналась в совершении восьми краж из дворов разных лиц. Потерпевшие, допрошенные по делу следователем (частным приставом), подтвердили обстоятельства краж. По делу было составлено восемь очень кратких и не подробных актов местного осмотра (протоколов осмотра места происшествия. – С. К). Все изъятые у М. Кленас вещи были предъявлены потерпевшим на опознание (при опознании другие похожие вещи, не имеющие отношения к делу, потерпевшим одновременно с похищенными вещами не предъявлялись). Все потерпевшие свои вещи опознали. Кроме того, по делу был проведен повальный обыск о личности М. Кленас[161].
Дореформенное русское уголовное судопроизводство отводило косвенным доказательствам – уликам – весьма незначительную роль, что было характерно для процесса, носившего по существу инквизиционный характер. Однако к середине XIX в. несовершенство лежащей в основе судопроизводства теории формальных доказательств все чаще обращало на себя внимание процессуалистов. Известную роль в критике этой теории играла и развивающаяся практика использования вещественных доказательств, чему способствовали достижения, в первую очередь, судебной медицины и химии[162].
Увеличение значимости вещественных доказательств в уголовных делах привело к появлению, как уже отмечалось, первых рекомендаций по работе с ними.
Так, например, давался совет «найденные инструменты, орудия и вещи, могущие служить доказательством или объяснением наступившего случая, должно нумеровать, тщательно укладывать и если можно опечатать и приобщить к делу точной их описью»[163].
В 1856 г. в России была учреждена должность эксперта по части естественных наук и микроскопии при Медицинском департаменте МВД, где стали проводиться судебно-медицинские исследования следов крови, спермы и иногда – муки, чая, съестных припасов, металлов[164].
Серьезным ударом по теории формальных доказательств стала написанная для получения ученой степени доктора юридических наук монография профессора Дерптского университета А. С. Жиряева «Теория улик» (1855).
В данной работе было показано значение косвенных доказательств для расследования преступлений, обоснована принципиальная возможность раскрытия преступлений с их помощью («из суммы вероятностей может составиться достоверность»[165]), выдвинуты предложения по изданию закона в случае принятия улик в систему уголовно-судебных доказательств (при этом отмечена важность невключения в закон «не заключающих в себе прямой практической важности истины, для которых приличнейшее место – в учебнике или монографии, а не в кодексе»[166]).
Отмечая значение косвенных доказательств для следственной деятельности, и этим фактически предвещая те принципиальные изменения, которые вскоре произойдут в Российской империи в организации работы по расследованию преступлений, А. С. Жиряев писал: «Подобно мореплавателю, который движет корабль по указанию компаса, следователь направляет свою деятельность сообразно с находимыми уликами: назначает обыски в домах, предпринимает личный осмотр, требует к допросу тех или других свидетелей и т. д.»[167] Говоря далее о значении косвенных доказательств, автор подчеркивает, что в уликах «следователь может иметь: 1) поводы к начатию своей деятельности, 2) побуждения к распространению, ограничению, или же изменению ея направления, например, в случае обнаружившихся признаков того, что преступление совершено несколькими участниками, 3) основания к принятию тех или других мер исследования, например, к учинению домового обыска, 4) руководство при избрании такого или иного способа применения сих мер в данном случае, например, при составлении плана допроса, 5) указания к отысканию других источников познания, например, благонадежных свидетелей, наконец 6) средства проникнуть в смысл этих источников и прозреть нередко сокрытый в самой глубине их образ истины, например, получить признание от упорно-запирающегося подсудимого»[168].
Вместе с тем А. С. Жиряев справедливо отмечал, что «там, где судьи, относительно применения улик, нуждаются в инструкциях уже очень подробных, лучше вовсе не допускать этого способа изобличения преступников»[169]. (Как современно и актуально звучит эта рекомендация о ненужности и даже опасности разработки слишком подробных, слишком детализированных методик расследования преступлений.)
В своей работе автор приводит и подробную классификацию улик по различным основаниям[170].
Следующим ударом по теории формальных доказательств стала работа В. Д. Спасовича «О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством» (1861), в основу которой были положены публичные лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургском университете.
«Вся деятельность судьи, главным образом, направлена к тому, – говорил В. Д. Спасович, – чтобы из частных следов, из последствий восстановить вероятную их причину…[171]»
Далее автор говорит о трех способах познания для уголовного судопроизводства, выделяя «чувственный опыт» (личный осмотр следов преступления, суждения экспертов, решение знатоками таких вопросов, которые требуют особых технических познаний), «предание, или восприятие чужих убеждений» (собственное признание обвиняемого, показания свидетелей и т. п.), «наведение, или умственное проникание в исследуемый предмет через указующие на него обстоятельства» (посредством улик)[172].
Сетуя на то, что улики, хотя и входят в состав розыскного процесса, но стоят там на заднем плане, В. Д. Спасович далее замечает: «… для преобразования нашей современной системы доказательств, очевидно не удовлетворяющей требованиям охранения общественного порядка, необходимо выдвинуть вперед доказательство посредством улик, предоставив судьям право приговаривать к наказанию по их совокупности»[173].