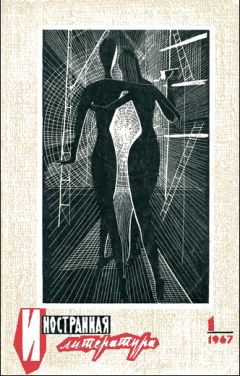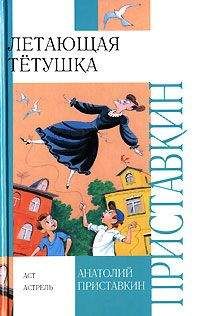годы, что собака была рядом, ей не приходилось выбирать, – с кем быть. На прогулке она шла так, чтоб непременно касаться хозяйки, а дома… дома она укладывала голову ей на колени и делала вид, что спит. Ибо, нужно быть всегда начеку. Помните? – «А то, мало ли что…»
Почти что осень…
В высоком небе – мелкая рыбья чешуя облаков. Под ногами – нежные пушистые кисти тимофеевки. Кажется, акварель неба расписана именно ими.
Рассвет был тут, только что. Подпалив сосняк, он ушёл восвояси, а стволы сосен так и остались тлеть до следующего рассвета, а на его месте вырос подсолнух солнца. Тот зрел на стебле сосны почти до полудня, покуда не взмыл к вершине холма дня. Впрочем, распробовать, ощутить вполне вкус дарованного ему шанса и остаться на высоте, смог подсолнух недолго. Эх, да покатился он, цепляясь лепестками, за всех и вся, что попадалось ему на дороге. Вроде и не скорее, чем взбирался он, а чудится, что именно так: наспех, впопыхах, ни на кого не глядя, дабы кинуться в омут ночи, ибо вновь должен добыть для утреннего леса, что полон малахита с изумрудами, иного убранства – оправленного в золото янтаря. Скоро теряет рассвет то злато, не жалеет и янтарь, топит его, питая сосны.
В том же сосняке, телята косули тревожат мерным своим сопением травинки на дне оврага. Тепло и спокойно им в его горсти до поры.
Следы молоденьких лесных козочек на песке столь трогательны: пяточка-носочек, пяточка носочек. Будто играли они друг с другом, лепили абрикосовое песочное печенье.
– Мама, ма-а-ам! Попробуй, как вкусно!
Ну… ещё бы невкусно, особенно с маминым-то молочком…
Сгорбившейся тенью человека кажется серебристый пень, хотя он уже и сам – тень. Тень прожитой жизни.
Преет яблоком земля. Почти что середина августа. Осень почти…
Под вуалью морщин
Вы знаете, как варят вИшневое варенье? Скажете – всяк по-разному. Ну, а верный способ есть? Самый вкусный или самый правильный? Опишу свой, хотя и не просил никто.
Беру спелых ягод вишни не меньше пуда, недолго вымачиваю с поварской солью, дабы выселить возможных жильцов. Омываю вишенки после, как младенцев: со тщанием, в трёх водах, да затем, от утренней зари до полуночи тешу себя тем, что изгоняю из их сердец камни уныния и разочарования, что в просторечии, промеж кухарок, именуют косточками. Непременно происходит так, что пятнами вишнёвой крови оказывается обрызгано всё округ: одежда, стены, кот, домашние, что забредают «случайно» или спросить про что-нибудь «очень важное». Малая толика попадает и на паука, который мудро растянул свой гамак между листьев столетника.
Свободные от бремени ягодки помещаю в медные тазы и задабриваю, умащиваю сладостью сахарного песку. Так, чтобы было необидно, на каждый фунт вишен добавляю ровно столько же сахару, а то и в полтора раза больше.
Убедившись, что все довольны, прикрыв тазы чистым полотном, оглядываю я окровавленную кухню, беру на руки кота, в одночасье сделавшегося розовым и иду вздремнуть, ибо сил остаётся только на сон.
После пробуждения, первым делом отправляюсь проверить, как там вишни. Кухня похожа на поле боя, а ягоды в тазах истомились, стаяли соком, что растопил самую последнюю песчинку сахару, и теперь, со всею осторожностью следует взогреть немного и сам таз, и его содержимое, дабы вернуть вишенкам прежнюю упругость и стать.
Семь дён с ягодами в тазах вожусь, как с родными. Грею их до розовой пены, которую снимаю деревянной ложкой в фарфоровое блюдечко, и даю ягодам остыть, изнежится и окрепнуть. При этом дух в дому стоит пряный, праздничный. Возле окон вьются пчёлы с осами, подле блюдец толкутся божьи коровки и детвора. Липкими пенками не брезгают даже отцы семейства, но вкушают их охотно, солидно – с белой сдобною булкой и чаем, а то со сливками.
Когда кипящие напоследок вишни разливаются по глиняным крынкам, им повязывают галстух бечёвки поверх чистой кипячёной тряпицы, дабы не сползла с горлышка, и отправляют в подпол «на потом». Домашние грустят, но не протестуют, а принимаются мечтать об ненастье и холодном осеннем дожде. Тогда уж будет позволено велеть принесть «всяких вареньев к чаю», среди которых самое любимое – вишнёвое. В его густом сиропе увязли воспоминания о тающем на ветках снеге; сторожком потрескивании открывающихся почек, дурмане запаха белых цветов, дыме костров последних ночных заморозков… да обо всём-всём лете! С его купаниями под щекотное покусывание карасей, с гуляниями в лёгкой одежде и радостями, в которых куда как больше из детства и безмятежности, чем причин, по которым прячет жизнь под вуалью морщин истинные лица людей.
Ни-че-го…
Однажды, ночь уговорила-таки грозу показать ей – что оно такое, дневной свет. И расстаралась та, да что ли волновалась слишком, – позабыла, где спрятала ключи от сундуков с громом, из-за того смогла лишь часто моргать белыми глазами, и ничего больше. Не глянулся ночи такой день, да не скажешь, не пожалуешься, ибо столь хлопот, и всё, дабы ей же угодить. Только, по сердоболию своему, чудилось ночи, будто бы огромный поезд наезжает на лес, а поскольку тому ни за что не сойти со своего места, от того делалось, если не жутко, то несколько беспокойно.
Эдак было намедни. Напоследок позаботилась гроза налить в овражки доверху воды, промыть коврики дорог, оттереть стволы дочиста. И ведь промочила каждую складочку коры, не пропустила ни одного листочка, смыла пыль и с надкусанных, и с позолоченных…
– Неужто последняя?
– Ты про что?
– Гроза! Неужто боле не будет в этом году?! Вон и паутина уже к бороде липнет… Не то осень?
– Да типун 42 тебе на язык!
– Злая ты баба, как я погляжу. Всё б тебе меня какой хворью дарить. Невестой была тихой да несговорчивой, а теперь, что ни слово, то как мерин поддых подковой. Недоглядел я… Надо было Нюрку, подружку твою, в жёны брать!
– Так иди и бери! Вдовая она теперь. – Неожиданно спокойным голосом предложила жена.
– Как вдовая? Мишка помер? Когда?!
Мужик сделался бледным, и, невольно потирая за воротом рубахи напротив сердца, принялся вспоминать, когда свиделись они в последний раз с закадычным другом детства. Было это на кладбище перед Пасхой, Мишка там бродил промеж крестов не один, а с бродягами, которые собирали с могил угощения, оставленные для потехи душ усопших дальней и ближней роднёй.
– Бродень 43, да пьяница был твой дружок. – С беспокойством глядя на мужа, сказала баба. – Он уж года два как в землянке жил за погостом. Там таких, как он … Много людей переварило то место.
Мужик с изумлением поглядел на жену, и вдруг заулыбался, показывая нехорошие зубы:
– Ну, я-то ещё живой!
– Живой, ещё какой живой. – Успокоила его жена, и припала лицом к