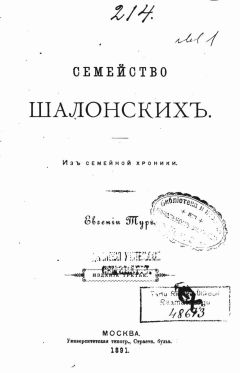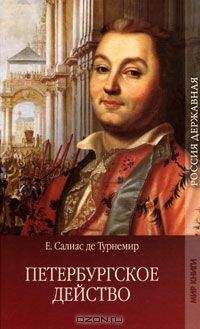— Братецъ здоровъ, пишетъ нѣсколько строчекъ, чтобы сказать, что посылаетъ намъ гостинцевъ.
— Объ Сережѣ не пишетъ?
— Да приписка — вотъ гляди, внизу: "Сережу не видалъ, но слышалъ, что здоровъ. У пріѣзжаго изъ ихъ полка офицера справлялся."
Никто, несмотря на любопытство, не прикасался къ открытому ящику съ гостинцами, сама бабушка, узнавъ, что ящикъ присланъ тетушкѣ отъ братца, отошла и сѣла на свое обыкновенное мѣсто. Мы всѣ стояли около тетушки, не спуская глазъ съ ящика. Тетушка, не торопясь, стала выкладывать. Прежде всего лежалъ четырехъугольный французскій бѣлый платокъ, буръ-де-суа, съ широкою каймою на турецкій манеръ и съ букетами въ углахъ. Онъ былъ присланъ бабушкѣ. Пекинетовая косынка, шитая золотомъ, для тёти Саши. Она такъ и заахала, взяла ее двумя пальцами, высоко подняла надъ головою и въ восторгѣ воскликнула:
— Глядите, паутина, паутина! Тонина-то какая! Прелесть-то какая! Милый братецъ: благодарю васъ, сестрица.
— А меня-то за что?
— Вѣдь это онъ, все васъ любя, насъ не забываетъ…
Затѣмъ вынутъ былъ токъ изъ пикинета, шитый бѣлыми и золотыми бусами, для матушки. Она взяла его и отложила къ сторонѣ безучастно.
— Мнѣ ужъ не рядиться, сказала она грустно. — Я и траура-то никогда не сниму.
— Ну ужъ нѣтъ, пріѣдетъ сынокъ, не надо его встрѣчать въ траурѣ, сказала бабушка. Въ старое, очень недавнее время, матушка залюбовалась бы токомъ, но теперь, послѣ своей скорби объ отцѣ и тревогѣ о сынѣ, наряды не шли ей на умъ и опостылѣли; въ ней совершилась большая перемѣна. На днѣ ящика лежалъ небольшой, красный, сафьянный футляръ, тетушка открыла его и, несмотря на свою чинность, важность и сдержанность, ахнула.
— Маменька, посмотрите, сказала она, — вѣдь это подлинно сокровище!
Она вынула небольшіе часы, по ребру осыпанные однимъ рядомъ бирюзы и двумя рядами жемчугу; на эмалевой крышечкѣ, цвѣту лазурнаго, изображена была головка херувима съ двумя маленькими, прелестными крылышками. Цѣпочка часовъ была изъ бирюзы и золотыхъ звѣздочекъ. И часы, и цѣпочка были прелестны.
— Онъ пишетъ, что купилъ ихъ для меня въ городѣ Франкфуртѣ-на-Майнѣ и проситъ носить ихъ. Но какъ буду я носить такую дорогую и прелестную вещь, сказала тетушка.
— По праздникамъ, Наташа, замѣтила бабушка, — бережно да аккуратно, такъ и будутъ цѣлы.
И сколько было восклицаній, удивленія и радости! И кто ни пріѣзжалъ, всѣмъ показывали гостинцы братца-генерала. Всѣ дивились и разсказывали знакомымъ, а эти знакомые, любопытствуя, пріѣзжали оглядывать гостинцы братца-генерала и дивиться имъ.
— А вотъ, Богъ дастъ, и Сереженька навезетъ гостинцевъ, сказала тетушка. — Тогда, Люба, будетъ твой чередъ. Братцы сестрицъ не забываютъ, какъ видишь.
— Лишь бы скорѣе, вздохнувъ, замѣтила матушка.
Вскорѣ послѣ этого пріѣхала сосѣдка наша, мелкопомѣстная дворянка, посѣщавшая бабушку очень часто и гостившая по нѣскольку недѣль у насъ то съ одною, то съ другою дочерью, и нѣсколькими сыновьями; она, почитай, полгода живьмя-жила у бабушки, кормилась, одѣвалась и учила дѣтей у нашего дьякона, на бабушкинъ счетъ. Катерина Трофимовна Волгина была любима въ Щегловѣ за свою неподдѣльную оригинальность и природный умъ. Поздоровавшись со всѣми, поцѣловавъ въ плечо бабушку, которую звала она не иначе, какъ матушка моя, сокровище мое безцѣнное, перецѣловавъ тетушекъ и насъ всѣхъ, усѣлась она на большой полукруглый диванѣ, стоявшій въ глубинѣ комнаты, поодаль отъ бабушки и тетушекъ. Она вязала чулокъ такъ быстро что спицы мелькали молніей, да и языкъ ея работалъ также быстро. Она принялась разсказывать намъ новости сосѣдскія, какъ вдругъ прервала свои разсказы вопросомъ:
— А гдѣ же Наталья Дмитріевна? Я ее, сударыню, не вижу.
— Дня три назадъ уѣхала въ Грамово (Грамово были имѣніе бабушки, верстъ за 70 отъ Щеглова). Я просила ее съѣздить туда; управляющій писалъ, что лѣсъ торгуютъ. Она у меня хозяйка, во всемъ толкъ знаетъ.
— Какъ толку не знать при ихъ умѣ и, можно сказать, степенствѣ.
— Что это, замѣтила обидѣвшись тетя Саша. — Это о купцахъ говорятъ: Его степенство.
— Разница, матушка Александра Дмитріевна, разница великая. Его степенство одно, а степенство ея другое — означаетъ ея солидную проницательность. А развѣ я приравняю столбовую-то дворянку, да еще Кременеву, къ купцу — чтой-то! Обижаете меня, сударыня.
— Что за обида, сказала бабушка, — нѣтъ никакой обиды. Не взыщи на словѣ, Сашенька пошутила.
— А когда будетъ Наталья Дмитріевна?
— Нынче ждали; навѣрно завтра пріѣдетъ.
— Вотъ что? А я имъ письмецо привезла.
— Какое такое письмо?
— Вотъ оно, сударыня, доставая изъ мѣшка, письмо, сказала Волгина. — Была я намедни въ Тулѣ, а почтмейстеръ, хорошій мой знакомый, говоритъ мнѣ: взяли бы, сударыня, письмо. Когда еще оказія будетъ въ Щеглово, — неизвѣстно, а посылать въ Алексинъ — не затерялось бы какъ. Что-жъ ему, говоритъ, письму-то, лежать; вы сосѣдка имъ, отвезли бы въ Щеглово. Я письмо и взяла.
Матушка быстро встала, взяла большое письмо изъ рукъ Волгиной и перемѣнилась въ лицѣ.
— Маменька, сказала она, обращаясь къ бабушкѣ, — это письмо отъ братца Дмитрія Ѳедоровича.
— Ну, что жь такое, отвѣтила бабушка спокойно, — онъ ей часто пишетъ.
Матушка вертѣла письмо въ рукахъ.
— Ужь не слишкомъ ли часто? Недѣлю назадъ пришелъ отъ него ящикъ съ подарками и письмомъ, а теперь опять письмо.
— Ты, Варенька, стада ужь не въ мѣру тревожиться. Ящикъ пришелъ по оказіи, какъ онъ самъ писалъ, съ гостинцами изъ города Франкфурта-на-Майнѣ.
— Маменька, я распечатаю письмо; вѣдь у сестрицы секретовъ никакихъ нѣтъ.
— Конечно, нѣтъ, но чужое письмо распечатывать непригоже, сказала бабушка.
— Развѣ это чужое — сестрино!
— Старшей сестры, сказала бабушка серьезно.
— Мнѣ страшно, маменька: не пишетъ ли онъ чего объ…
— Объ Сереженькѣ? Господь съ тобой. Чего ты не придумаешь. Племянникъ Дмитрій подъ Парижемъ, какъ изъ газетъ видно, онъ въ государевой свитѣ, а Сереженька идетъ съ полкомъ по Франціи. Развѣ ты не читала въ намеднишнемъ письмѣ, что онъ его не видалъ, почитай, во время всей компаніи и имѣетъ объ немъ вѣсти черезъ другихъ. Да теперь ужь и сраженій нѣтъ.
— Право, я распечатаю,
— Не дѣлай ты этого, нехорошо, да и Наташа смерть не любитъ этого. Я никогда до ея писемъ не дотрогиваюсь. Получить, сперва сама прочтетъ, а потомъ и намъ всегда читаетъ.
— Да, сказала я, — преинтересное письмо, съ описаніемъ городовъ, читала она мнѣ.
— Кто — она?
— Тетушка.
— Такъ ты и говори, Люба; тетушка, говори, а не она; что такое: она? невѣжливо!
Я смутилась замѣчаніемъ бабушки; не замѣтила я, что оно было сдѣлано для того, чтобы положить конецъ разговору съ матушкой, который, видимо, бабушкѣ не нравился. Вечеръ прошелъ, по обыкновенію, въ рукодѣльѣ и домашнихъ разговорахъ. Волгина говорила больше всѣхъ и старалась заставить насъ смѣяться, передавая алексинскія вѣсти. Пробило 10 часовъ, Бабушка встала.
— Ну, прощайте, дѣти и дѣвочки, прощайте племянницы; спокойной ночи, Катерина Трофимовна.
Всѣ поднялись, подошли, по обыкновенію, цѣловать бабушкину ручку. Она всѣхъ насъ перекрестила, тоже по обыкновенію, и пошла въ свою спальню, но воротилась.
— Варенька, отошли письмо въ комнату Наташи, вели положить его и оставить въ ея спальнѣ. Пріѣдетъ навѣрно завтра; быть можетъ, и миръ заключенъ.
— Слушаю маменька, сказала матушка и отдала письмо Волгиной. которая отнесла его въ комнату тетушки.
Я пришла къ себѣ; я жила въ мезонинѣ, и внутренняя небольшая лѣстница изъ зады вела въ наши комнаты. Спать мнѣ не хотѣлось; я раздѣлась, надѣла ночную кофту и юбку и сѣла читать привезенныя съ почты газеты. Не знаю, какъ долго я читала, какъ вдругъ услышала какой-то протяжный, ужасный стонъ, отъ котораго замерло мое сердце и кровь остыла. Я бросилась внизъ, сбѣжала по лѣстницѣ и ринулась въ залу полутемную, едва освѣщенную одною лампой. По ней бѣжала матушка; я бросилась къ ней и схватила ее за талію. Она билась въ рукахъ моихъ, съ безумнымъ лицомъ, и кричала страшнымъ голосомъ:
— Убитъ! убитъ! убитъ!
— Кто убитъ? Что съ вами? Бога ради, что съ вами?
Но она не узнавала меня, продолжала отчаянно биться въ рукахъ моихъ, порываясь впередъ и все твердила, но тише и тише: