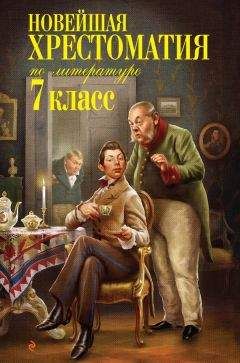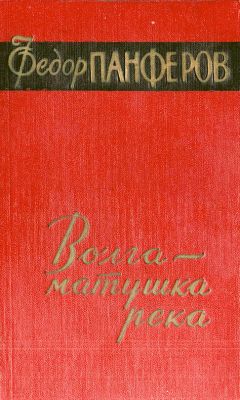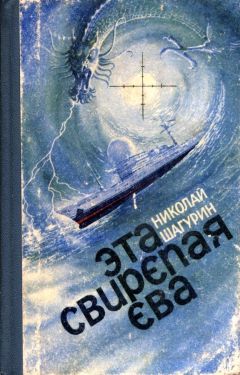Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирульников и говорит:
– Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь – бери золото и уходи, а если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь, – то сейчас убью.
А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.
В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили – рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались «преображать» Каменского. «Бог с тобою, – думают, – и с твоим золотом».
– Мы, – говорят, – этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может.
Граф велел выгнать городских цирульников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит:
– Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой, отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют.
Граф отвечает брату:
– Здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь – разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?
Тот говорит:
– А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.
А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно.
– После того, – говорит, – если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержанье всех лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется – я его запорю и в солдаты отдам.
Брат и говорит:
– Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь, а водвою вместе это не сделаешь.
– Хорошо, – говорит граф, – пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.
– И это, – говорит, – последнее твое слово, брат?
– Да, последнее.
– И в этом только все дело?
– Да, в этом.
– Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего пуделя остричь. А там уже мое дело, что он сделает.
Графу неловко было от этого отказаться.
– Хорошо, – говорит, – пуделя остричь я его пришлю.
– Ну, мне только и надо.
Пожал графу руку и уехал.
А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают.
Граф призвал Аркадия и говорит:
– Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя.
Аркадий спрашивает:
– Только ли будет всего приказания?
– Ничего больше, – говорит граф, – но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цецилией.
Аркадий Ильич пошатнулся.
Граф говорит:
– Что это с тобой?
А Аркадий отвечает:
– Виноват, на ковре оступился.
Граф намекнул:
– Смотри, к добру ли это?
А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу.
Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел.
Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом, да тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.
Графов брат говорит:
– Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно: сделай мне туалет в самой отважной мине, и получай десять золотых, а если обрежешь, – убью.
Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг, – господь его знает, что с ним сделалось, – стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман ссыпал и говорит:
– Прощайте.
Тот отвечает:
– Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?
А Аркадий говорит:
– Отчего я решился – это знает только моя грудь да подоплека.
– Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?
– Пистолеты – это пустяки, – отвечает Аркадий, – об них я и не думал.
– Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил.
Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:
– Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от бога: пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал.
И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет:
– Не бойся, увезу.
Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и незаметно.
Со сцены видели и графа и его брата – оба один на другого похожи. За кулисы пришли – даже отличить трудно. Только наш тихий-претихий, будто сдобрившись. Это у него всегда бывало перед самою большою лютостию.
И все мы млеем и крестимся:
– Господи! помилуй и спаси. На кого его зверство обрушится!
А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно, но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала – он сказал:
– Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет.
Наш только тихо улыбнулся.
Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так – чего никогда с ним не бывало – столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:
– Тро боку, тро боку! – и щеточкой лишнее с меня счистил.
А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией – одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено, – терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.
Это значит, чтобы, как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:
Приползут, – говорит, – змеи и высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпионы.
Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься.
А другие даже с медведями были прикованы, так, что медведь только на полвершка его лапой задрать не может.
Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморочку, так и в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню…
Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вкруг – тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят, – один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет… Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.
И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидации, – понимаю только: «гонят, гонят, гони, гони!» и больше ничего.