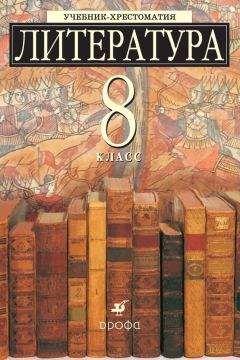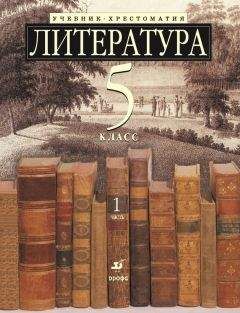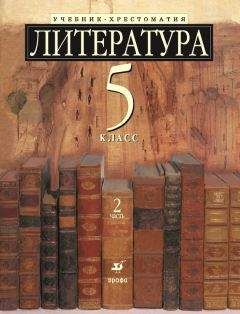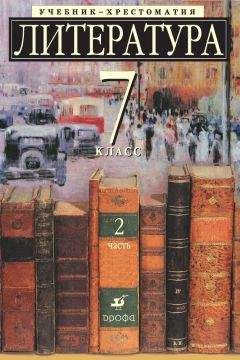И теперь сама наклонность лет его и горестные опыты не могут совершенно преодолеть крутости его нрава. Человек, который в спокойные часы свои наполнен горячайшего доброжелательства ко всем людям, во гневе доходит до неистовства. Самая безделица выводит его из самого себя. Но ничто не может быть искреннее и горестнее его раскаяния. Он в состоянии унизить себя пред последним человеком и все отдать, чтобы удовольствовать обиженного. Зная то, домашние пользуются его слабостию и нарочно попадают ему во время исступления его, уверенные, что щедрость его превзойдет несравненно оскорбление.
Остаток дня проводили мы в приятных разговорах. В уединении своем не может он еще позабыть своей службы. Сердце его восхищается славою отечества, и он сердится на себя, что не имел счастия сражаться на Ревельском рейде или в заливе Выборгском[282].
У него множество заведений: больница, училище, деревенские рукоделья[283]. Благочестие его занимается теперь строением церкви. Крестьяне окружают его не так, как господина, но так, как отца и благоприятеля. Он заставляет прощать себе несовершенства нежным своим благоволением к человечеству.
Я проводил день с удовольствием, ночевал и на другой день, после завтрака, в прекраснейшее утро приехал домой.
№ 3
Пятница, августа 23, 1790 года
Напрасно море свирепеет:
Когда всевышний не велит,
Брегов оно терзать не смеет;
Одна песчинка их делит.
Херасков
Иногда находят на меня такие минуты, что я погружаюсь совершенно в воспоминание прошедшего и с удовольствием представляю себе явления моего младенчества. Воображаю живо места, где я бегал, мои ребяческие игрушки, радость и печали, маловажные и непостоянные. Особливо помню я один разговор с моим наставником. Мне кажется, что я теперь его вижу.
Это было летом. Тихий вечер оканчивал знойный день. Солнце величественнее и медленнее на конце пути своего покоилося за мгновение перед закатом на крайних горах горизонта, а я прогуливался на крутом берегу Волги с добродетельным другом юности моей, кротким Плановым. Власы главы его белели уже от хлада старости; весна жизни моей не расцвела еще совершенно. Мы касалися оба противоположных крайностей века. Но дружба его и опытность сокращали расстояние, которое разделяло нас; и часто, позабывался, мнил я видеть в нем старшего благоразумнейшего товарища.
Будучи важнее обыкновенного в тот вечер, он говорил мне: «Сын мой (сим именем любви одолжен я был нежности сердца его и послушанию моего), озирая холмы сии, одеваемые небесною лазурью, поля, жатвы и напояющие их струи, не чувствуешь ли в сердце благополучия? Чудеса природы не довольны ли для счастия человека? Но одно худое дело, которого сознание оскорбляет сердце, может разрушить прелесть наслаждения. Великолепие и вся красота природы вкушаются только невинным сердцем. Сохраняй тщательно непорочность сердца своего; будь кроток, праведен, благотворителен, поставляй себя всечасно в присутствии вышнего существа. Одно счастие – добродетель; одно несчастие – порок. И все вечера твои будут так тихи, ясны, как нынешний. Спокойная совесть творит природу прекрасную».
Слова его глубоко проникли в душу мою, и я повергся с умилением в объятия старца. Бугорок служил нам местом успокоения. Свет вечерний исчезал под кровом ночи. Скоро стало повсюду единая тьма и безмолвие.
«Чувствительность твоя, – продолжал наставник мой, – есть хвала сердцу твоему и добродетели. Не взирай никогда хладнокровно на благодеяния божий. Все, что окружает тебя, ты сам, твоя бессмертная душа – все носит на себе священное напечатление[284] его могущества и благости. Сия былинка, теперь столь свежая и которая завянет завтра, и сие подъемлющееся[285] светило нощи, сребровидный месяц, единым словом его получили бытие свое. Пройди взором необъятные пустыни неба: они усеяны солнцами, которые другим мирам светят. Другие земли привлекаются и тяготеют к ним; и шар сей, на котором мыслящие существа проводят краткую жизнь, становится точкою в чине природы.
Повинуяся первому побуждению, которое рука всевышнего в первое мгновение бытия сообщила им, огромные тела небесные, окруженные шаром воздуха, колеблются на зыбях эфира. Планеты катятся в предписанных кругах. Источник света и жизни, горящее солнце служит средоточием для подчиненных ему планет. Не пременяя места, обращается оно на оси своей.
Испытатель естества[286] вознесся на крылах наблюдения и написал чертеж системы мира. Десять тысяч поперечников шара нашего[287] отдаляют нас от солнца. Всех ближе к нему катится Меркурий. Видишь сие блистающее светило? Это – Венера. Она странствует так же, как и Земля, блистая заемным светом. Ниже ее шествует Земля, прекрасная обитель человека. Служебная планета Луна ей сопутствует, обращался кругом и освещая ночи ее. Четвертый круг описывается Марсом. В чрезвычайном отдалении – огромный Юпитер с четырьмя Лунами совершает длинный путь свой. Далее движется Сатурн. Отдаление солнца заменяется ему изобилием спутников, отражающих слабеющие лучи солнца и твердым кольцом плавающих около его.
Око астронома не постигнет всех миров, но сердце благодарное и незлобливое полагает пределы любопытству благоговением и восхищается премудростию Божию в самое то время, когда признает свое неведение и слабость».
Так говорил он и, взяв меня за руку, повел в спокойную хижину. Уже наступало время сна. Рука в руку обратились мы спокойно ко вратам сельского обитания нашего.
№ 4
Пятница, сентября 13, 1790 года
Представь, о древность, мне пред очи
Вселенный спокойный век:
Там в сладком мире дни и ночи
Препровождает человек;
Земля там в части не делится,
Там вся природа веселится,
Бегут оттоль вражда и гнев,
Там с агнцем почивает лев.
Майков
К нам все известия доходят поздно. Отделены от города, мы составляем особливый свет, где царствует тишина, спокойствие, уединение. Но какою радостию наполнилося наше предместье, когда раздалася желанная весть мира! Толпятся на улице, обнимают друг друга, поздравляют, окружают счастливого вестника. Каждый наведывается у него о брате, о друге, о сроднике. Я расспрашиваю об Алетове и имею несравненное удовольствие слышать, что он жив, что к достоинству храбрости присоединил он другое, любезнейшее – человеколюбие. Он имел счастие быть употреблен к спасению погибающих. Множество равных ему людей, сограждан, обязаны ему жизнию. Какое наслаждение может с сим сравниться! Сколько печалей должны быть заглажены в сердце его сим сладостным воспоминанием! Но восхищения наши помрачаются иногда слезами прискорбия и сожаления. Сердца проникаются состраданием при воспоминании сих достойных молодых людей, которые так, как мой Эмилий, заплатили долг отечеству своею незлобливою и прекрасною жизнию. Несчастные родители! Вы не примете их в свои объятия, ванта сирая старость лишена подпоры сладостного утешения. Нежные друзья будут вечно чувствовать в сердцах своих праздное место, которое занимали столь приятно сии любви достойные юноши. В блестящих обществах столицы будут спрашивать друг друга: где те, которые недавно разделяли забавы наши и увеличивали их своею живостию, откровенностию, знанием света? Строгий долг, любовь отечества, слава присвоили себе жизнь их и память.
В разговорах наших следуем мы постепенно за звучным оружием российским на суше, на море. С благоговейною печалию представляем себе и в самой смерти непоколебимое мужество героя Ангальта, удивляемся пламенному духу сего маршала, не вышедшего еще из первой юности, который, опоясав флаг, бросается в море, прося только уведомить отца его, что умирает достойным его сыном. Другой, сын славного стихотворца, которого стихи поставлены в заглавии листа сего, в самом огне сражения устремляется на камень против неприятельской батареи и кричит солдатам: «Ребята, за мною! Я уже на батарее!» И в то же самое время ядро опровергает великодушную похвальбу его.
Мы начертываем в воображении все походы, все станы российского воинства, и положение Мемеля, Ковалы, Пумалазунда, Саватайполя[288] нам уже почти столько же известны, как и мирные хижины нашего предместия.
Но мы не довольствуемся разговорами. Достойный пастырь наш ведет нас к жертвеннику бога сил и мира. Соединенные усердием и доброжелательством, мы изливаем горячайшие молитвы и благодарения Всевышнему за успехи, которыми благословил он оружие российское. Досточтимый священник поучает духовное стадо свое словом, происходящим от избытка сердца. Он не ищет красноречия: убеждение покоится на устах его. Таким образом любимый отец говорит среди послушных детей своих. Седины его, ясность взора, свидетельница спокойствия душевного, брада, нисходящая на грудь его, посох, на который опирается, – все возвещает учителя народного, который стоит на краю вечности.