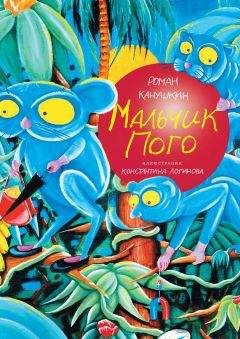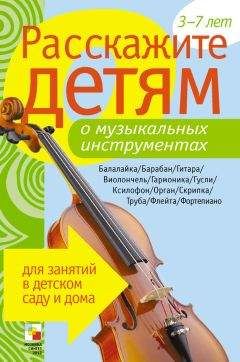— А в вашем лесу есть грибы? — спрашивает Петя у Гиты.
— Есть. Мартин сводит тебя в лес, если мама разрешит, Мартин у нас с семи лет сам ходит в лес.
В Латвии детей воспитывают иначе, чем у нас. Воспитание строгое, слово «нельзя» не подлежит обсуждению. У ребенка есть свои обязанности, и он выполняет их без напоминаний. Мартин, например, ездит на велосипеде на почту, за молоком, помогает Гите по саду. Ни Мартин, ни Лига ни разу не вмешались в разговор взрослых. Их не пичкают, с ними не обсуждают меню. Что дали — то и едят. Не нравится — до свидания. Над ними не квохчут. О них мало говорят. О цветах говорят чаще.
Гиту у ворот поджидают две девочки. Они собираются на день рождения к однокласснику, и им нужны две розы. Гита проводит девочек к цветам, срезает две высокие розы, на выбор, долго объясняет, как называется каждая роза, и девочки уходят счастливые.
— Мам, а зачем здесь столько цветов? — спросил один московский мальчик свою маму.
— Для красоты.
— А какая от красоты польза? — спросил мальчик.
За домом яркая зеленая лужайка. По ней нельзя ходит. Кажется, какой бред: трава — и не ступи на нее.
А это особый сорт травы, ее Гита и с Валдисом высеяли весной. Изумрудная, ровно остриженная, она образует правильный прямоугольник, пересеченный диагональю — дорожкой. Ни Лиге, ни Мартину не приходит в голову спросить, почему нельзя ее топтать. Потому что она особенная, на нее надо любоваться.
Мы привезли с собой коробку пластилина. В Латвии пластилин плохой — мягкий и «пачкучий», к тому же каких-то грязных цветов. Так что наш пластилин производит впечатление на детей.
Устраиваемся в саду, за столом.— Знаете, как сделать из слона? — спрашиваю я детей.
Леплю муху, из мухи — зайца, из зайца — собаку, из собаки кошку, из кошки — мышку, из мышки — слона. Мартин следит за моими манипуляциями с интересом и пониманием, а Лига не успевает замечать, как одно животное превращается в другое – слишком быстро.
Петя глядит не на меня, а на Мартина. Если Мартину понравится то, что я делаю, и я, таким образом, войду с ним в дружбу, то и Пете будет проще подружиться с Мартином. К тому же Петя любит меня и хочет, чтобы я нравилась всем без исключения. Свои чувства он тщательно маскирует, придавая лицу нарочито равнодушное, даже скептическое выражение. Да и поза под стать: руки в карманы, плечи приподняты,— бравый парень. А сам дрожит — им с Мартином предстоит поход в лес за грибами. А ну если Мартин наберет грибов — лес-то ему знаком, а Пете не повезет, как с ловлей рыбы?
Аня отщипывает кусочек пластилина, вылепливает улитку.
— Улитку, это очень просто,— объясняет она,— берешь кусочек, катаешь, закругляешь и вытягиваешь рожки.
Лига не понимает. Мартин объясняет сестре по-латышски, и та с поразительной ловкостью вылепливает улитку. Аня обескуражена. Когда она объясняла, Лига хлопала глазами, а стоило брату произнести что-то непонятное, как Лига все поняла.
— А если эту колбаску, из которой получилась улитка, расплющить, нарвать по краю и свернуть, то получится роза,— говорит Петя. Розы — это то, чем можно удивить. И точно — розы производят впечатление более сильное, чем превращение мухи в слона. Вылепив свои триумфальные розы, Петя наконец расслабляется, успокаивается.
Теперь можно бы предоставить детей самим себе. Но не тут-то было. Дети вцепляются в меня мертвой хваткой. Они просят меня вылепить и то, и это и прекрасно повторяют за мной. Я вижу, как Мартину и Лиге, несмотря на природу и самостоятельность, недостает таких занятий.
— Целая выставка, только не ломайте! — восклицает Гита. Надо видеть, с каким интересом эта шестидесятилетняя женщина разглядывает каждую зверюшку. Люди, связанные с природой, живущие в ней и ради нее, куда более непосредственны, чем люди, живущие в городах.
— Природа — мой бог,— говорит Гита, показывая свой небольшой, но прекрасный сад.— Деревья — это живые существа.— Гита подводит меня к яблоне.— Это яблоня — старушка. Когда я подхожу к ней, чтобы обрезать засохшие ветви, я прямо чувствую, как освобождаю ее, как она ждала моей помощи и как благодарна мне.
СПРЕССОВАННЫЕ ЭМОЦИИ
Мое детство привило мне стойкий иммунитет к проявлению эмоций, особенно положительных. Я росла в больницах и интернатах, где изъявление радости считалось дурью. Да и веселиться среди прикованных к постелям больных совсем неуместно.
В больнице санаторного типа я впервые увидела лес. В окрестностях Баку, где я жила до этого, настоящих лесов не было. Я полюбила природу с такой страстью еще и потому, что в ней я находила отдохновение от тягот больничной жизни.
Я собирала для лежачих в лесу все, что только можно собрать: цветы, ягоды, шишки, грибы, кусочки сосновой коры.
Попав в лес, я всегда что-то судорожно собираю. Как-то мой муж, который терпеть не может этих поборов с леса, спросил меня: «Почему ты не умеешь просто любоваться цветами, листьями, что за потребность все собирать?»
Действительно, почему?
Но это — все тот же импринтинг. Лес для меня навсегда связан с больницей, с лежачими, с той радостью, которую они испытывали, получая из моих рук лесные дары. Собрать и раздать всем — вот истинное счастье.
Интернаты и больницы отучили меня быть ласковой, проявлять эмоции на людях. В юности я гордилась тем, как я владею собой — никому не дознаться, что происходит в моей душе. Наоборот, чем жалостливей был чей-то рассказ, тем с большей строгостью и невозмутимостью я его выслушивала.
Я была холодна с близкими, не терпела родительских нежностей, приходила в бешенство от изъявлений сочувствия.
Так я жила до рождения сына. Ребенок высвободил мои сдавленные, годами спрессованные и утрамбованные эмоции. Наконец я смогла рассмеяться и расплакаться от души. Так я не смеялась и не плакала с десяти лет, с первого интерната. Я начала оттаивать.
Не могу, к сожалению, сказать, что преодолела свои комплексы и во взаимоотношениях со взрослыми. Потому-то, наверно, щедрая судьба послала мне детей. Сотни детей, с которыми я занималась и занимаюсь по сей день, раскупорили сотни каналов, связывающих меня с миром. Больнично-интернатский опыт здесь не только не мешает, но и помогает с пониманием относиться к моим подопечным.
Но если бы это было лишь моим личным опытом, не стоило бы об этом распространяться. Увы, это опыт всего поколения, чья юность пала на шестидесятые годы. Мы были воспитаны на том, что жалость унижает человека, что человека надо любить, а не жалеть, забыв о том, что «жалость» в своем первоначальном смысле — синоним «любви». Мы были воспитаны на ироническом отношении к жизни, смеялись над карамзинской сентиментальностью. Нашим идеалом была культура подтекста, когда над поверхностью выступает лишь 1/8 айсберга, в то время как 7/8 его находится под водой.
Мы стыдились проявлять добрые чувства, но зато не стеснялись критиканствовать.
Большинство родителей детей, с которыми я занимаюсь, принадлежит к этому поколению. В силу самых разных обстоятельств они так и не смогли изжить этого комплекса, так и не научились смеяться, когда смешно, и грустить, когда грустно. Поэтому с родителями намного трудней, чем с детьми. Они не в силах преодолеть свою зажатость. Если у музыканта зажата рука, он не может играть, если у родителей зажата душа — они не могут нормально, свободно общаться со своим ребенком.
В ЛАТЫШСКОЙ СЕМЬЕ
Детей кормят отдельно. Я спрашиваю у Гиты, почему бы нам не сесть вместе и не покончить разом с этим делом.
Нет. Такой порядок. Дети не садятся за стол вместе со всеми. Зачем им участвовать во взрослых беседах? Кроме того, «мы будем есть разносолы, а детям дается только простая пища».
На столе стоят коричневые керамические миски с творогом, политым сметаной, а сверху посыпанным клубникой с черникой. Около каждой миски — большая керамическая кружка, до середины наполненная молоком. Предусмотрительно. Я наполняю чашку до краев, и Аня вечно обливается.
Лига ест не спеша, аккуратно, Аня же умудряется перепачкаться. Тому, на что я смотрю сквозь пальцы в силу своей небрежности, здесь придается значение. Все должно быть красиво.
Пока дети едят, Гита пропалывает розы. Кто из наших матерей, а тем более бабушек, оставит детей одних за столом?
И еще. Гита ничего не говорит мне о моих детях. У нас это первая тема — садимся в уголок и шепотом обсуждаем поведение детей. Я не удерживаюсь и говорю Гите, как мне нравятся ее внуки. Самостоятельные, восприимчивые к учебе.
— Такие они есть.— Гита расправляется, втыкает лопату в землю, земля разрыхленная, ухоженная.— Мартин отлично учится. Ему все дается без труда, и я боюсь, что он вырастет лентяем.— Гита склоняется над землей, проводит большой ладонью круг под розовым кустом. Зачем?
А вот зачем — чтобы вода задерживалась в лунке, не растекалась. В Гите, как и в ее сестре Айне, есть природная четкость, обстоятельность. Работа на земле приучила обеих не делать лишних, ненужных движений. Может ли Мартин вырасти лентяем в такой семье?