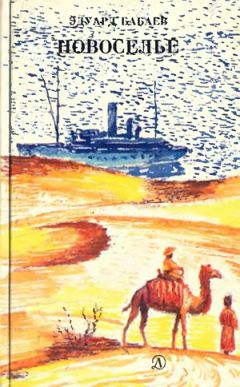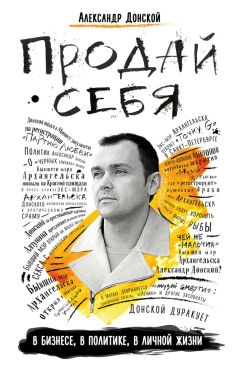У лесника Митрохина есть мотоцикл с коляской. Он ездит в нём по лесу и глядит, где что…
В коляске у него всё, что нужно для работы. А работа у него повсюду: там дерево надломилось, надо его поправить, иначе оно пропадёт; там скворечник надо поставить, чтобы птицам было где жить.
Однажды Митрохин привёз в коляске медвежонка. Он сидел испуганный и злющий, но смирный. У него была обожжена лапа. Возле Алтын-Сая попал он в лесной пожар…
Митрохин стал его лечить. Даже в город ездил в ветеринарную больницу советоваться с врачом.
И выздоровел медвежонок. Стал по всему дому ходить, по двору. Выбрал себе место для жилья на чердаке. Тепло, сухо и далеко видно. И лестница есть. Понравилось медвежонку по ступенькам забираться на чердак. Смотрит сверху и всё замечает. Если кто-нибудь к воротам подходит, ворчит медвежонок: не нравится ему.
Приезжали из городского зоопарка, предлагали Митрохину:
— Продай медвежонка!
Он отказался.
— Мне, — говорит, — это ни к чему. Пускай в доме живёт.
Жена Митрохина вернулась к осени, говорит:
— Что такое! Медведь в доме! Не пущу!
А лесник посмеивается:
— Ничего! В тесноте, да не в обиде…
А тут медведица пришла. Стала медвежонка звать. Тот испугался, спрятался на чердак, слушает, что ему медведица говорит, только уши торчат. Митрохин ворота отворил, а сам вошёл в дом.
— От всех, — говорит, — оградил, а от родной матери нельзя.
Закурил махорочку, смотрит в окно. Медведица в воротах маячит. Один бок её густой шерстью зарос — память лесного пожара. Видно, потеряла она тогда своего медвежонка, а теперь разыскала, и он её сразу вспомнил.
Сполз медвежонок с лестницы, урчит, повизгивает. Подошёл к воротам. Поднялся во весь рост и обожжённой лапой машет. Лапа давно зажила, а как в лес идти, он опять о ней вспомнил.
— Ну, прощай, прощай! — сказал Митрохин.
И ушли медведи в лес.
Митрохин вышел во двор, закрыл ворота и стал чинить свой старый мотоцикл с коляской.
Было мне лет восемь. Митрохин сказал:
— Хочешь волчонка поглядеть?
— А где?
— Попроси у отца бинокль, тогда увидишь…
Ближе к вечеру мы пошли с Митрохиным через лесничество к скалам, откуда начинается спуск в долину. Залегли в кустах.
Митрохин говорит:
— Гляди в оба!
Быстро темнело. По небу бежали тучи. Наконец взошла луна.
— Волчье солнышко! — сказал Митрохин. — Сейчас объявятся.
И вот шевельнулись кусты далеко-далеко на скате. И на полянку выскочил щенок. Он покрутился на месте, почесал лапой за ухом и тявкнул. Я не слышал его голоса, но в бинокль видел ясно, как он скалит зубы.
Я протёр стёкла рукавом рубашки и снова приставил бинокль к глазам.
Рядом со щенком уже стояла волчица. Она загородила щенка и поглядела на меня. Её глаза вонзились в мой бинокль.
— Учуяла, — сказал Митрохин, наблюдая за волками в свою старенькую подзорную трубу, которую всегда носил с собой в кармане.
Волчонок валялся по земле, дурачился. Волчица рыкнула на него.
Он сразу сел на хвост, поднял уши и уставился на меня.
— Что она ему сказала? — спросил я.
— «Гляди в оба!» — ответил Митрохин.
Собаку свою, большого, косматого и доброго зверя, Митрохин называл Зорро.
— Защитник заповедника! — говорил он про него.
И действительно, Зорро отважно сражался против волков, когда они стали тревожить заповедник.
На теле защитника заповедника остались глубокие рубцы и шрамы, полученные в схватках с вожаком стаи.
Митрохин уважал Зорро.
И Зорро всегда шёл с ним рядом: и в лес, и в правление заповедника.
Даже директор разрешил Митрохину входить в его кабинет вместе с Зорро.
И пока Митрохин толковал с директором, никто не мог войти в кабинет, потому что у порога лежал защитник заповедника.
Он никогда не подавал голоса напрасно и был уверен в себе и в других.
Его душа была создана для больших и сильных чувств. Поэтому и в голосе Зорро слышались только радость или гнев.
И вдруг Зорро потерял спокойствие, стал суетливым, что так не шло к нему.
И какие-то новые ноты послышались в его голосе. Он как будто был чем-то смущён, растерян…
Зорро убегал в лес, возвращался, снова исчезал… И даже скулил под окнами.
Жена Митрохина сказала:
— Житья нету! Спать не могу из-за него…
И Митрохин посадил Зорро на цепь.
Зорро успокоился, как будто цепь снимала с него ответственность за то, что происходило в лесу.
А в лесу шла тайная охота, незаконная, неразрешённая.
Митрохин случайно увидел следы, нашёл один капкан, другой, сорвал сетку и страшно разволновался.
Сейчас же спустил с цепи Зорро.
Но это не помогло, потому что охотник был неуловимый.
И становился всё смелее и смелее, выхватывал из заповедника самых дорогих и редких зверей.
Однажды раздался страшный удар в ворота, и в калитку вломился наш Мишка с обрывком цепи на шее.
Значит, хотели его взять живьём и как-то изловчились накинуть ему цепь на шею.
Цепь он оборвал, но обида осталась.
И пришёл он к Митрохину как бы с челобитной, чтобы его и от цепи, и от обидчика избавили.
Насилу совладал с грозным просителем Митрохин. Но цепь снял.
Мишка походил по двору, залез на чердак, а потом ушёл в лес.
Охоту Митрохин называл «похищением у природы».
— Это для чего же такое похищение у природы? — говорил он о тайном охотнике, браконьере. — Сегодня редкую птицу, завтра редкого зверька, послезавтра нашего медвежонка…
Он боялся погрешить против истины, но был уверен, что в лесу орудует кто-то из тех, кого Зорро привык считать своим.
— Нехорошо обманывать честного Зорро, — говорил старик Митрохин. Ох, нехорошо!
Нехорошо обманывать Митрохина, думал я.
Митрохин всегда говорил правду.
Иногда в заповедник приезжал на попутной машине киномеханик Шумилин и привозил с собой аппарат на треножнике и жестяные коробки с лентами.
Его здесь все знали и любили, потому что он однажды привёз картину, которая всем очень понравилась. Называлась она «Знак Зорро». Это была не цветная и не звуковая картина, но всё, что там происходило, было всем понятно.
Благородный рыцарь освобождал и спасал животных.
Шумилин сказал:
— На базе выбрал специально для заповедника.
Было это ещё в начале 30-х годов.
Кинопередвижка была большой редкостью.
Шумилина встречали, как волшебника.
Жена Митрохина сказала:
— К чему нам этот Зорро, у нас и свой есть… Рыцари! — И она взглянула на Митрохина. — А вот вы лучше привезли бы нам картину «Два друга, модель и подруга». Это было бы чудесно!
— Очень ценная лента была! — говорил Митрохин о старом фильме «Знак Зорро».
Но его интересовала новая кинохроника. И он всё спрашивал Шумилина, нет ли у него знакомого оператора хроники.
— Всё бы надо снять — и утреннюю зорьку, и вечернюю, и водопой, и луга, и жену мою Ангелину, как она, сердечная, тут живёт и мается…
А мне хотелось запечатлеть в памяти, как на хроникальной плёнке, самого Митрохина с его ружьишком за плечом, в ветхом плаще.
Он был великий, вечный работник на пользу заповедных лесов и полей, боровшийся с похищениями у природы всеми силами, какие только у него были. И заповедник жил спокойно, пока по тропе с Зорро шёл старик Митрохин.
Мы уже миновали ореховую рощу, когда услышали рёв нашего Мишки.
Слышен был его голос, а самого Мишки нигде не было видно.
Он попал в капкан и жаловался всему лесу на свою беду.
— Стой! — скомандовал Митрохин.
Из глубины леса кто-то приближался к Мишкиному капкану.
Мы спрятались за корнями и замерли. Зорро был взъерошен и испуган.
Из глубины леса вышел кассир заповедника Решка в гражданской фуражке.
Он любил загадывать на счастье: «Орёл или решка», подбрасывая пятак в воздух. Его и прозвали: «Решка».
Митрохин выскочил из укрытия, не помня себя от гнева, и крикнул:
— Ты что же делаешь, а?
Решка замер на мгновенье, потом оглянулся на Митрохина.
У него было другое лицо, не такое, как прежде.
— Тебя судить надо, — сказал Митрохин. — Предатель!
— Свидетелей у тебя нет, — ответил Решка.
— Бог свидетель! — закричал Митрохин и навёл на него своё ружьишко.
Решка хотел отвести ружьё, но, схватившись за ствол, уже не выпускал его из рук.
Он тянул и опрокидывал старика Митрохина. И уже падал в густые заросли орешника старик Митрохин, и плащ его беспомощно мотался по воздуху.