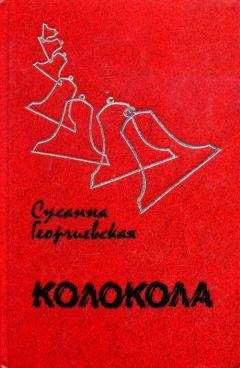Докурив самокрутку, он наклоняется над бортом и протягивает вперёд коричневую морщинистую руку. Ляля смотрит в ту сторону, куда потянулся старик, и видит, что в этом месте над морем торчат две балки. Они торчат, как обглоданные деревца без сучков и веток, выросшие прямо со дна морского. Меж ними натянут канат.
— Багор подай! — командует старик.
И Степанёк, пыхтя, подаёт ему большую толстую палку с железным крючком на конце.
— Ого-го! — кричит старик и замахивается багром. Он ударяет по сонной воде и, пошарив где-то за бортом, достаёт оттуда большую рыбу.
Бок у рыбы распорот. Она чуть шевелит взъерошенными плавниками.
— Частик, видать! — говорит Степанёк.
— Видать, что по-твоему, — отвечает старик и опять замахивается.
Ляля внимательно смотрит в воду. Она видит теперь, что на протянутом под водой канате бьются, выстроившись в ряд, огромные толстые рыбы. Старичок замахивается и замахивается. Он едва успевает глушить их одну за другой. Лодка кренится с боку на бок. На дне её кучей лежат рыбины с распоротыми боками.
— Ой, гляди! — вдруг кричит Степанёк и толкает Лялю под локоть. — Гляди! — И он тычет куда-то вдаль коричневым пальцем.
Ляля смотрит в ту сторону.
Под натянутыми парусами плывут в море три широкодонные лодки. Паруса вздуваются. Меж парусов мелькают чёрные пятнышки… Шапки! Такие же, как у бабушки…
— Сущёвские, — говорит старик.
— Бабушка! — кричит Ляля. — Ба-а-а…
— Как же ты эдак-то вот издалече бабку-то опознала? — смеётся старик. — Видать, что глаз у тебя соколиный.
— Ба-абушка! — кричит Ляля.
— Пошибче крикни! — советует Степанёк.
И Ляля кричит так шибко, что на глаза у неё набегают слёзы.
Но с лодок не отзываются. Наверно, бабушка ничего не слышит, хотя её лодки уже совсем близко от «Ефросиньи». Они рассекают воду, и большие волны, которые они разгоняют в стороны, начинают подбрасывать и качать спокойно стоящую на якоре «Ефросинью». Быть может, под «Ефросиньей» прошла та волна, которая добежала сюда от бабушкиной лодки.
— Ба-а-а… — опять кричит Ляля. — Бабушка!
Лодки вдруг останавливаются. Они становятся на якоря у огромных и толстых свай, вколоченных в самое дно моря. Меж свай аккуратным квадратом протянуты четыре толстые верёвки.
— Налегай! — кричит Степанёк, прыгая на скамейке.
И люди в лодках, словно услышав его команду, приподнимают канаты.
«Рыбу будут колотить, как дед Василий», — думает Ляля и отчего-то зажмуривается.
Но, когда она открывает глаза, ей становится видно, что рыбаки на бабушкиных трёх лодках и не думают колошматить рыбу баграми. Перекинувшись через борта своих широкодонных лодок, они медленно приподнимают канаты.
Что-то клокочет, бьётся, бурлит меж свай. Море ходит в этом квадрате мелкой рябью, взрывается фонтанами белой пены, словно кипит.
— Видать, косячок поймали! — с досадою говорит старик и, прижав ко лбу козырьком ладонь, внимательно смотрит в сторону бабушкиных трёх лодок.
Ляля тоже делает из ладошки козырёк и смотрит на лодки. Ей видны только согнутые спины да края чёрных морских шапок. Нет, наверно, бабушки здесь нету. Была бы она на лодке, так услыхала бы, как Ляля кричала: «Ба-а!»
— Подтягивайся к верёвке! — вдруг слышит Ляля знакомый, охрипший от ветра голос.
Медленно, словно нехотя, огибают лодки высокие сваи. Люди в лодках держатся за канаты, и вот уже бока их лодок почти совсем привалились к канатам.
— Вира! — командует бабушкин голос, и все руки разом приподнимают канат.
Канат показывается над водой, и Ляле становится видно, что вслед за ним волочится из моря тяжёлая сеть. Она так и ходит, так и рвётся из рук рыбаков. Что-то плещет, клёхчет, кипит в сети.
— Ой-я! — кричат рыбаки на лодках надсадными голосами. — Ой-я!..
Один молодой и высокий голос словно летит над другими, тяжёлыми, и Ляля невольно поднимает голову, чтобы поглядеть, куда же он полетел.
— Гундэры подтягивай! — командует бабушка гулким, похожим на эхо голосом.
И два рыбака берутся разом за толстую сваю.
— Хорош! — кричит бабушка. — Начинай!
Над бортом лодки взвивается первый сачок. Сачок опускается в сеть, чуть приподнятую рыбаками над морем. Он полон рыбы. Из всех трёх лодок опускаются в сеть сачки.
Рыбы падают на дно лодок. И вот уж кажется — в лодках и места больше для рыбы нет, а она всё льётся да льётся в лодки из огромной сети-котла.
Рыбаки что-то громко и дружно кричат, а что — разобрать нельзя.
— У-уф! — слышится Ляле.
Ей теперь уже не кажется, что это выкрикнули разные голоса. Все руки, сколько их есть на лодках, движутся одновременно. Все голоса, слившись в длинный, протяжный и слитный голос, разом кричат: «У-уф!»
Люди в лодках приподнимают в последний раз почти опустевшую сеть.
На дне сети полощется рыба.
Сеть подкидывают, и остаток рыбы плюхается на дно лодок.
Рыбаки забрасывают обратно в море пустую сеть. Края у неё обвешаны мелкими камешками.
Сеть уходит глубоко под воду, взметнув над собой хоровод фонтанчиков.
И опять видно только, как плавают меж четырёх столбов четыре каната.
Лодки движутся к берегу. Дед Василий глядит им вслед.
— Эх, и везёт сущёвским! — говорит он вздохнув. — Улов-то какой! Видать, сплошняком судак… Первый в путину котёл выбрали.
Подумав, он печально насаживает на крючья, подвешенные к канату, несколько мелких рыбёшек из ведёрка с надписью «Колхоз «Завет Ильича» и садится на вёсла. Лодка движется к берегу. Вот уже виден мысок, поросший травою и камышом.
И берег виден. Мелькает издалека длинный стан посредине берега. Вот плита… Кухарка…
— Изъясниться, чтой ли, с Сущёвой? — глядя на Лялю, задумчиво говорит старик.
— Чего ж не поговорить! — соглашается Степанёк.
Дед Василий задумывается. Он думает долго. Никто не знает, что́ он надумал. Но поздно вечером, перед самым отъездом бабушки, когда бабушка сидит рядом с Лялей на остывшем уже песке, он подходит и говорит:
— Так я того, Варвара Степановна…
— Что? Надоело небось, куманёк, сидеть на крючьях на самоловных? — прищурившись, говорит бабушка.
— Да как тебе это получше выразить, Варвара Степановна… Выразить не могу, — отвечает старик. — Оно не то чтобы надоело…
— Ладно, садись, — говорит бабушка. — Может, эдак будет спорней.
Старичок закуривает.
— Оно, конечно, крючок от крючка рознится, — присев рядом с бабушкой, говорит старик. — Уж кому-кому бы знать про крючок, как не старому человеку. Нынче-то у молодёжи повадка совсем другая. Не умеют крючок наставить. Разучились крючок точить…
— Да ты прямёхонько, — говорит бабушка. — Не толкуй мне об молодёжи. Пришёл об себе говорить, за себя же и говори.
— Оно, конечно, способ старинный, как говорится — изжитая метода, — вздыхает старик. — Сортность рыбы спадает до классу второго. Тут не об чем толковать. Но зачем прохватывать на собрании… Всякий знает, что нынче-то на самоловных рыбалит только Василий Войтенко — мы, стало быть… Так в разум взять не могу, кума, зачем тебе было меня на миру перед всем народом поганить. Стар стал, мать! Опоздала учить.
— Видать, охота тебе переброситься на невода под старость? — искоса поглядев на него, говорит бабушка.
— Отчего ж! — обрадовавшись, отвечает старик. — Могу уважить. Переброшусь на невода. Чего ж!
— Спасибо, кум, — говорит бабушка. — Даю большое спасибо за уважение.
Оба молчат.
И вдруг бабушка, подтолкнув старичка под локоть и вытерев губы платочком, показывает ему глазами на того самого парня, которого обозвала вчера на лове «танцем-баланцем».
— Хорошего внучка подрастил, куманёк, — говорит бабушка. — Грех роптать. Худого слова не скажешь. В звеньевые думаем выдвинуть. Знаешь, в ту бригаду — в молодёжную. Ну, что скажешь? Рад?
— Спорый рыбак, ничего себе, — отвечает старик. — Можно, конечно, и в звеньевые.
— Отча-ли-ваем, Варвара Степановна! — кричат бабушке с берега.
— Давно пора! — говорит бабушка.
Попрощавшись с кухаркой и старичком, она торопится к лодке.
За ней вприпрыжку семенит Ляля.
Лодка отчаливает от берега.
На берегу, провожая Лялю и бабушку, стоят кухарка, дед Василий и Степанёк.
— Так ты того, наезжай! — говорит кухарка.
— Бывай здорова, Матрёна! — отвечает бабушка.
— На-езжай! — повторяет кухарка и машет рукой.
— За-еду!.. — говорит бабушка. — Знаешь сама-а-а, все звенья по косам-то пораскиданы. Пробные ловы-ы… Послезавтра на Есенскую надобна-а-а-а…
Кухарка ещё что-то говорит, но уже не слышно что. Одно только слово ещё долетает до лодки:
— На-ез-жа-а-ай!
И больше уже не видно её.