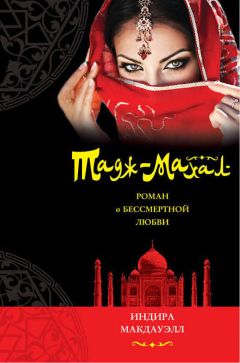А за речкой глухо ухало... Хотя рассмотреть, что там происходит, было нельзя - застила высотка.
Вытащив из машин последних раненых и оставив полуторку, опять помчались - теперь уже знакомой дорогой - к госпиталю.
Не разговаривали, будто предчувствуя недоброе. На подъезде к палаткам красноармеец невольно убавил ход: госпиталя больше не существовало.
Еще дымились остатки брезента, который недавно служил укрытием от непогоды, а на истерзанной воронками земле то там, то здесь виднелись остатки нехитрого госпитального оборудования.
Военврач лежал прямо на дороге - очевидно, высматривал на проселке не успевшие обернуться машины.
Об этом подумалось всем.
Бывший комбайнер, несмотря на перебитую левую ступню, взялся съездить и в этот рейс. Он высунулся из кабины, глухо проговорив:
- Не дождался...
Тело врача приподняли с земли и осторожно положили в кузов. Внимательно осмотрели кусты и обнаружили среди них слабо дышавшего красноармейца с забинтованными глазами. А под ветвями срубленной взрывом березы нашли контуженную, без сознания медсестру. Когда стали поднимать ее на плащ-палатке в кузов, сестра на мгновение приоткрыла глаза и, прежде чем снова потерять сознание, успела махнуть рукой в глубину леса:
- Там...
Бросились вместе с шофером в указанном ею направлении и обнаружили около двадцати замаскированных кустами, ветками раневых. Некоторые - с головы до ног в бинтах - походили на окровавленные мумии.
Пот застил и разъедал глаза, пока бегом переносили и укладывали раненых в машины.
Потом для верности еще рыскнули в разные стороны по лесу. И шофер, убедившись, что никого живых больше не осталось, махнул рукой:
- Едем!
Дорога назад показалась короче.
По реке, где-то вправо и влево от мелководья, опять разрасталась канонада. Опять начинался бой.
- Он спит, - сказала мать. - Давно заснул...
И Женька действительно только что спал. Его разбудил мужской голос. В доме уже больше года не звучало мужских голосов - с того самого времени, как ушли на восток последние красноармейцы, а Женькин отец, директор средней школы, погиб где-то вблизи своего родного села Аляшино, в отряде самообороны, блокировавшем фашистский десант, оседлавший магистральное шоссе. А через два дня городок заняли немцы. Домик при школе, в котором жила директорская семья, немцы заняли под комендатуру, и Женька с матерью, учительницей математики, переселились, от греха подальше, в эту вот брошенную кем-то халупу, которая даже неизвестно куда относилась: к соседней с Аляшино деревне Масловке или к пригороду.
- Я вот по какому делу к вам, Таисия Григорьевна... - снова глухо пророкотал за перегородкой мужской голос.
И Женька сквозь полудрему невольно прислушался.
- По какому?.. - негромко и почему-то настороженно спросила мать.
- Вы Макара-полицая знаете?
- До войны знала понаслышке... - ответила мать после паузы. - Раз или два мельком видела на родительских собраниях, потому что, как только речь заходила о его сыне, он вставал и демонстративно уходил мол, вы учителя - вы и воспитывайте. А теперь вот... - Мать замолчала.
- Я вас слушаю...
- Я не знаю, откуда он разнюхал, где мы устроились, но уже несколько раз перехватывал меня по дороге. То запугивает: мол, немцы не знают, кто ты... А то - даже очень сильно - набивается в друзья: у него жена перед самой войной умерла... Так вот. «Я знаю, говорит, как ты перебиваешься...» На «ты» ко мне обращается, - подчеркнула мать для неведомого слушателя. - «Айда, говорит, ко мне жить - как сыр в масле будешь...»
Последний раз сказал: дает три дня на размышления - «на раскумекивания», как он выразился; сказал, в субботу - значит, послезавтра - вечером придет за ответом. Куда мне бежать?! - И мать вздохнула, как всхлипнула.
Смутно, сквозь сон слышал все это Женька и все же каким-то образом уловил, что этот мосластый полицай Макар - в прошлом завхоз на кожевенной фабрике - пристает к его матери, лучше которой, умнее и красивее которой не было в городе!
Собеседник матери, помолчав, сказал:
- Теперь послушайте внимательно меня, Таисия Григорьевна... Я не буду уточнять, от имени кого я действую... Скажу только, что это в основном люди, которые в недалеком прошлом были - да и остаются! - друзьями вашими, вашего мужа... Сейчас над многими из них нависла опасность... Кого конкретно немцы взяли на подозрение, мы не знаем, более или менее в курсе этого полицай Макар, или Макар Степанович, как звали его когда-то... И никто, кроме вас, не может нам помочь.
- А что для этого надо? - тихо спросила мать.
- Нам надо узнать имена людей, которые у немцев в «черном списке». Хоть одно имя! Чтобы нам сориентироваться. И ничего больше.
- Как я могу узнать это?.. - спросила мать.
- Под хмельком этот негодяй, будто случайно, похвалялся своим дружкам, что скоро бывшая учителка - извините меня, Таисия Григорьевна, - ну, сказал: будет ему борщи варить! Вот почему я оказался у вас. И вот какой единственно возможный план. Вы сказали, в субботу он будет у вас. По будням он еще сдерживается, а в выходные дни напивается основательно, иногда просто до одурения, и тогда бывает до такой же степени болтлив. Не говорите ему в эту встречу «да», но и не говорите «нет»: просто дайте ему надежду. Пусть он напьется как следует, и постарайтесь что-нибудь выведать у него.
Мать неожиданно засмеялась:
- Чего же он у меня напьется: воды?!
- Нет. Прежде всего, вот... - Очевидно, мужчина что-то показал. - Сколько могли, мы мукой разжились, настряпаете что-нибудь, будто вы его в гости ждали, - он разомлеет. Выпивку он с собой, я думаю, принесет. Но для верности вам надо будет наведаться в Аляшино - там ведь родня у вас, и с её помощью выменяйте у кого-нибудь самогона. Мы вот тут нашли кой-какие вещички, сгодятся для обмена.
- Да я сама еще подберу что-нибудь...
- Все это очень срочно, Таисия Григорьевна, - подчеркнул мужчина. - А вас с сыном мы тут же переправим куда-нибудь подальше отсюда, где побезопасней...
* * *
Проснулся Женька от необъяснимой тишины в избе. Какое-то смутное воспоминание шевельнулось в мозгу и тут же погасло. Чтобы не разогнать дрему, Женька еще некоторое время лежал на топчане и глядел прямо перед собой, в одну точку на потолке - где кончались раньше полати и начиналась печка. Полати за зиму сожгли - от них остался лишь квадратный брус у самого потолка с привинченным к нему кольцом, на которое бывшие хозяева дома подвешивали детскую люльку.
Женька зябко поежился и привычно зашарил руками поверх байкового одеяла, чтобы натянуть на себя сползший отцовский полушубок. Не нашел его и только теперь, поведя глазами из стороны в сторону, заметил, что изба еще больше опустела по сравнению со вчерашним, как пустела она, впрочем, изо дня в день с того момента, как они сюда переселились, то есть с оккупации.
Еще чуть помедлив, Женька вздохнул и, решительно отбросив одеяло, стал босыми ногами на холодный земляной пол. По всему телу от ног пробежали мурашки.
Через подслеповатое окошко в избу пробивалось неяркое солнце. И Женька обрадовался, увидев желтый квадрат на полу, у стены. Перебежал и стал на прогретую солнцем землю, будто опустил ноги в тазик с теплой водой, даже сделал руками несколько гимнастических упражнений, чтобы прогнать сонливость и разогреться.
Увидел записку на столе, но подходить и читать ее не стал. Бумага теперь тоже была предметом роскоши, и всякий раз, уходя из дому, когда Женька спал, мать оставляла одну и ту же записку: «Буду поздно вечером. Мама». Потом убирала ее до следующего раза.
Сунув ноги в матерчатые тапки на жесткой резиновой подошве, которые почему-то назывались спортсменками, зашнуровал их и только после этого натянул штаны.
Черная вельветовая куртка комом лежала на лавке. Один рукав ее свесился, и у самого пола виднелась отдающая перламутром пуговица на манжете. Женька хотел было натянуть куртку, но вспомнил, что не умывался, и, зажав ладони под мышками, направился в угол, где под фанерными полочками, выкрашенными в грязно-белый цвет и служившими вместо шкафа, стояло помойное ведро. Такая же - чуть выше Женьки - фанерная перегородка возле печки условно делила избу на кухню и горницу.
Помойное ведро было почти полным, и Женька подумал, что сразу вынесет его, как только умоется, чтобы к возвращению матери сделать за нее хоть эту работу... Вынимать из-под мышек обогретые теплом собственного тела руки не хотелось, и, глядя то на кружку, то на ведро, в котором воды было на донышке, Женька подумал, что воды он тоже принесет... Лишь после этого, отодвинув занавеску на полочках, он потянулся к обмылку в железной мыльнице. И когда брал его, под руку ему попалась тонкая, непонятно упругая нить, вроде лески из чистого конского волоса.