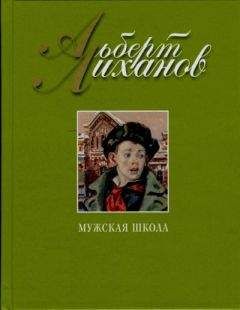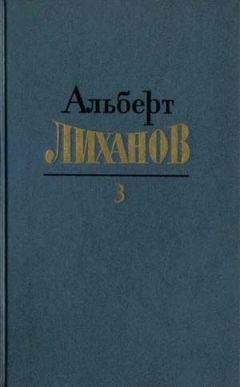Вера Ивановна побледнела, губы у нее затряслись.
– Ничего, ничего! Только чтобы ты все понял – больше ничего.
– Я все понимаю, – сказал Алеша с тоской. – Я все понимаю. Но только вы меня не уговаривайте.
Вера Ивановна зашмыгала носом, часто-часто заморгала, подошла к Алеше и вдруг наклонилась к нему и поцеловала куда-то в затылок.
Они молчали теперь дома. Стена встала между ними, прочная каменная стена, и трудно было ее разрушить. Иногда мама пыталась просто постучаться в эту стенку, решительно подходила к Алеше, брала его за руку, говорила:
– Алеша!..
Но Алеша вырывал руку и говорил ей:
– Всю жизнь Алеша! – и отворачивался. Или шел в прихожую, надевал пальто и уходил к Гошке. У Гошки они о чем-то говорили, они вырезали солдатиков из бумаги или читали, но Алеша говорил, и вырезал, и читал, думая совсем о другом. Он часто встречал удивленные Гошкины глаза и замечал, что, оказывается, ответил что-то невпопад, или сказал совсем не то, или начал читать не на той странице.
Он сидел у Гошки, или шел куда-нибудь, или говорил с кем-нибудь и понимал, что живет он какой-то двойной жизнью. И эта – когда он был у Гошки, или ходил, или читал, – эта жизнь внешняя. Он механически делал все это, а думал совсем о другом.
Иногда ему так хотелось плюнуть на все, побежать домой, к маме, прижаться к ней и крикнуть: «Ну, скажи, скажи, скажи, что все это не так, что все по-другому!» Но он только глубже прятался сам в себя, как какая-нибудь черепаха.
Но как все призрачно на белом свете!
Сначала Алеша тяготился от ощущения, что он живет, как черепаха, спрятавшись сам в себя, спрятав от Гошки, от Веры Ивановны, спрятав от мамы, от всех вокруг все, что в нем болело. Потом он привык к этому, и ему даже стало нравиться, что он – сам в себе, и никого туда не впускает, что он живет как бы один среди людей.
Он стал замкнутым и скрытным, он редко улыбался и никогда уже не хохотал, как раньше, и даже Гошка, лучший и единственный друг Гошка, стал надоедать ему, и Алеша нередко, когда они читали или делали уроки, вдруг вставал и уходил.
Он шел просто так, куда глаза глядят, – по дальним незнакомым улицам, по тихим окраинам. В город опять нагрянула весна.
На тополях суетились грачи, поправляли свои мохнатые гнезда, потом как-то враз приутихли, и тополя, словно красавицы какие, поразвесили на ветках красные сережки. Сережки стали зелеными коробочками, а когда раскрылись, над городом снова пошел снег.
Июньский тополиный снег крутился в воздухе, покрывая улицы пушистой пеленой, ступать было мягко; кругом пахло терпким запахом нагретой солнцем листвы, землей, выпускавшей острые стебельки трав…
Алеша шел по улице и чувствовал, как незаметно, само собой он как бы отогревается, вдыхая весну, глядя на тополиный снег, слушая грачиный гомон. Что-то просыпалось в нем, как просыпается замороженная земля от зимнего неподвижья, как просыпаются соки в деревьях, начиная весенний коловорот.
Он шел, качаясь на гнучих досках тротуаров, и в нем пела какая-то внутренняя музыка, было удивительно легко на сердце, хотелось даже взлететь, забраться туда, к грачам, и оттуда, с высоты, посмотреть вниз, так, чтобы захлестнуло сердце и стало страшно и радостно от такой высоты.
Он шел и шел по незнакомой какой-то улице, усыпанной летним снегом, и вдруг будто рядом, над ухом, грохнул гром, и он даже оглох на мгновение.
Впереди него, взяв под руку того самого капитана, шла мама. Они говорили о чем-то, и мама смеялась.
Алеша остановился. Все в нем металось, все горело и страдало в нем.
А мама уходила по деревянным, гнущимся тротуарам со своим капитаном и все смеялась, смеялась.
Ненависть и отчаяние, ревность и гнев – все смешалось в нем. «Что бы сделать, – думал Алеша, – что бы сделать сейчас такое, чтобы все это кончилось – сразу и навсегда. Чем бы отомстить за отца, отомстить так, чтобы они запомнили?»
Он чувствовал, как туманятся мысли в голове, как стучит в висках кровь.
«Что бы сделал сейчас отец? – подумал Алеша, ожесточаясь. – Что бы он сделал?»
Эта мысль как бы остудила его. Если бы был отец, мать бы не шла под руку с капитаном, ни за что бы не шла…
«Ну и что же, – подумал он, снова ожесточаясь, – раз отца нет, значит, можно ходить под руку с каким-то капитаном?»
Кровь прихлынула вновь, и стало темно вокруг. Алеша сунул в рот два пальца и сильно, долго, зло свистнул. Получилось хоть и громко, но недолго, и тогда он набрал полную грудь воздуха и засвистел протяжно и долго вслед матери и вслед этому капитану.
Они обернулись, мама увидела Алешу, и даже отсюда, издалека, стало заметно, как она побледнела. Люди на улице оглядывались, смотрели на Алешу, потом смотрели на тех, кому он свистел так протяжно и зло. Многие не понимали, в чем дело, но некоторые догадывались или просто предполагали, отчего это мальчишка свистит двум взрослым – женщине и капитану, и переговаривались между собой – кто весело, кто горько, – став невольными участниками Алешкиной беды.
А Алеша свистел и свистел, проклиная и ненавидя предательство.
Потом он повернулся и побежал.
Как все призрачно на белом свете!
Вчера еще – да какой там вчера, час назад – ему было хорошо и уютно прятаться в себе. Он думал, что не так уж плохо устроены черепахи: зачем всем знать, что у них внутри, они прячутся сами в себя, и никому до них нет дела.
И все это рухнуло в один миг. Нет, теперь он понял другое.
Он понял, что, спрятавшись в себя, молча, ничем не помешает предательству.
Нет, надо, чтобы все знали, что происходит.
Надо, чтоб все знали, что предательство не прощают.
Алеша как заведенный ходил по комнате, когда пришел Гошка. Алеша все метался, не зная, что сделать, что придумать, куда пойти.
«Что сделать, – думал он, – что сделать, чтобы изменить все это. Чтобы мама снова была такой, как раньше. Пусть она плачет, пусть ходит бледная, с синими дугами под глазами, пусть он, Алеша, будет мыть пол и готовить обед, а мама – пусть она думает об отце, только думает, пусть думает вечно, всегда, – только не это!»
Он метался по комнате, а Гошка испуганно смотрел на него.
«А что, если и правда?» – подумал Алеша и засмеялся. Он подошел к Гошке.
– Как ты сказал тогда? – прошептал он. – Второй отец?
Он снова засмеялся. Да, нужно придумать что-то. Придумать такое, чтобы потрясти мать. Чтобы она все поняла. Он подошел к столу и посмотрел на отца.
Отец безмятежно улыбался в своем ромашковом поле. «Правильно, улыбайся, – подумал Алеша, – и не знай того, что происходит». И вдруг Алеша вспомнил, как зимой он говорил с отцом. Это он бредил тогда. Но вот уже прошло столько времени, и столько еще он болел тогда, а все помнит, весь разговор, слово в слово. «Этот орден передается наследникам – сказал тогда отец. – Носи его ты…»
Да, да, орден, он должен надеть отцовский орден. Он будет носить его всегда, особенно – дома, чтобы мама видела и знала: у отца есть наследник, он, Алеша. И чтобы она всегда помнила об отце.
Алеша открыл стол, нашел красную коробочку с орденом и побежал на кухню за ножницами, чтобы проткнуть пиджак. Материя оказалась плотной, трещала под ножницами, наконец дырка получилась, и Алеша прицелил орден.
– Пошли, – сказал он Гошке, – пошли на улицу!
Вот сейчас они пойдут туда снова, где мама и капитан, и Алеша встретит их, и у него на куртке будет отцовский орден. Пусть мама видит его! Пусть знает! Пусть будет ей больно и стыдно!
Они слетели по лестнице, и Гошка все пробовал удержать Алешу. Но Алеша знал, куда шел и зачем, он зло посмотрел на Гошку, и тот отступился, пошел рядом.
На улице, где полчаса назад Алеша встретил мать с капитаном, никого не было. Тихо падал тополиный снег, редкие прохожие шли по своим делам, и ничто не напоминало о том, что произошло здесь совсем недавно.
Алеша побежал вдоль по улице, Гошка не отставал от него. Потом они вернулись обратно и побежали по какой-то другой улице. Но нигде мамы и капитана не было видно, словно они исчезли, провалились сквозь землю.
Наконец, устав, запыхавшись, Алеша пошел медленнее, Гошка еле плелся за ним, но не отставал. «Молодец, – с благодарностью подумал о нем Алеша, – настоящий товарищ».
– Слушай, Лёх, – сказал ему Гошка, – я за тобой как адъютант бегаю и даже не знаю зачем.
– Погоди, – ответил Алеша, закипая, представляя, как все это будет, – скоро узнаешь.
Они снова заметались по улицам, прочесывая их одна за другой. Наконец, обессилев, Алеша сдался Гошке, и они пошли домой. В запыленной куртке, понурый, Алеша еле волочил ноги.
Дома, едва открыв дверь, он пошел в ванную и сунул голову под кран. Прохладная вода успокоила и освежила. Гошка, так ничего и не поняв, сидел на подоконнике. Алеша ходил по комнате, не зная, за что взяться. Мамы все не было. Он метался из угла в угол, потом наконец полез на шкаф. Там где-то лежали папиросы. Еще отцовские.
– Дурак, что ты делаешь! – сказал ему Гошка и попробовал было отнять папиросы. Но Алеша не уступил, закурил неумело, закашлялся, но виду не подал и на глазах у Гошки выкурил подряд, одну за другой, три папиросы.