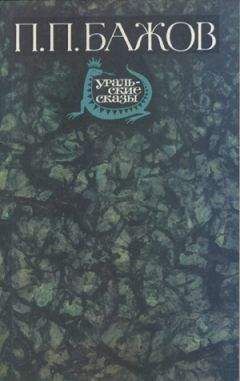— Тебя не касаюсь… С ними разговор.
Илья Гордеич, сильно шатаясь из стороны в сторону, пошел дальше и опять запел:
Ой да, ой-да за горо-о-ой…
Жиган поджал губы:
— Напьются, главное дело, а тоже! Что он сказывал?
— Ну, выпивши человек… мало ли сболтнет… На Грудках будто сено горит.
— На Грудках?
— Все, говорит, зароды в дыму.
— На Грудках?
— Так сказывал… Пьяный ведь — что его слушать…
— Тебе, главное дело, горюшка мало, что у хозяина на Грудках три зарода. Работнички!
Увидев нас, Жиган спросил Петьку:
— Был у вас кто нонче?
— Не видал.
— Говорил отец с кем-нибудь?
— Стоял давеча в заулке. Разговаривал с какими-то.
— С кем?
— Нездешние. По-деревенскому одеты. С вилами, с граблями… На паре. Пятеро их.
— Откуда ехали?
— С той стороны, — указал Петька.
— О чем говорили-то?
— Не слушал я.
— Ну и соседи у меня! Им бы, главное дело, худое человеку сделать! Про беду сказать — язык заболит! По пьяному делу разболтался, и то за счастье почитай. Чем, главное дело, я поперек горла людям стал? — И Жиган, потряхивая козлиной бородкой, побежал во двор.
Илья Гордеич между тем перешел на другую сторону улицы и остановился перед окнами чеботаря Гребешкова. Петька удивился:
— На что ему Гребешков сдался? Сам Гриньше говорил: «Берегись Дятла, наушник он, для виду только чеботарит».
Илья Гордеич сел на завалинку и стал скручивать цигарку. Возился он с этим долго. Бумага не слушалась, табак сыпался на землю. Вышел Гребешков маленький, вертлявый человечек с большим носом, взял у Ильи Гордеича кисет и бумагу и свернул две цигарки. Было не слышно, о чем они говорили, но вот Илья Гордеич стал стаскивать с левой ноги сапог. Делал он это очень долго. То наклонялся чуть не до самой земли, то откидывался назад. Когда сапог был снят, Гребешков ушел с ним в дом, а Илья Гордеич остался на завалинке. Со двора Жигана вылетела запряженная в телегу пара «праздничных», соловых с белыми гривами и хвостами. На телеге сидели Жиган, двое работников и работница. Телега загремела вниз по улице и свернула в переулок налево. Вышел Дятел с сапогом. Илья Гордеич опять долго возился, надевая сапог, потом притопнул ногой, поднялся и указал рукой на кабак. Дятел что-то говорил, как будто отказывался, но кончил тем, что снял с головы ремешок, которым были стянуты волосы, забросил в раскрытое окошечко, и оба они зашагали к кабаку.
— С Дятлом пошел! Нашел дружка! — осудил Петька своего отца.
Нам тоже было удивительно, что Илья Гордеич вдруг связался с пьянчугой Дятлом. Чтобы ждать было не скучно, мы стали играть шариками с верховскими ребятами.
Становилось темно, когда Илья Гордеич вышел из кабака. Дятла с ним не было. Илья Гордеич, пошатываясь, пошел домой. Песни на этот раз он не пел. Нам пришлось доигрывать, и мы потеряли из виду Илью Гордеича. Как только кончили игру, побежали домой. Остановились у Колюшкиного дома.
— Егорша, давай не будем спать эту ночь. Ладно? Ты за своим отцом гляди, я — за своим. Это будет так точно. Ты, Кольша, тоже не спи!
— А мне за кем глядеть?
— А ты… за нами, чтоб не уснул кто. К Егорше на сеновал приходи.
— Ну-к что… Ладно.
Отца своего я застал дома. Он сидел у огня и подшивал сапог. Мама готовила ужин, а бабушка вязала. Мама с бабушкой разговаривали, отец молчал.
После ужина я не пошел сразу на сеновал, а притаился во дворе — не услышу ли тут какой-нибудь разговор взрослых. Так и вышло.
Вскоре из дому вышел отец и, попыхивая трубкой, сел на крылечко. Как только на колокольне пробило двенадцать, отец подошел к соседнему забору и тихонько кашлянул. Ему ответили тем же.
— Ну что?
— Разыграл. Жиган угнал на Грудки, Дятел без задних ног. Чуть не две бутылки в него вылил да еще сорок копеек дал. У тебя что?
— Дедушко сам взялся проводить. Говорит, от Карандашихи через Жиганову заимку, потом болотами на Горнушинский прииск, а он чуть не к самой Чесноковской больнице подходит. Двадцати будто верст не выйдет.
— В Чесноковском, сказывают, доктор молодой, а дельный.
— В котором часу Филат Иваныч заедет?
— Велел, как час бить станут, наготове быть.
— Слушай-ка, Василий, не побоится доктор на леченье принять? Дано, поди, знать в Чесноковский.
— Да ведь он по чужому виду на руднике был прописан. Настояще-то его зовут Михайло Софроныч Костырев. Из Чесноковского он родом-то, только смолоду в городе работает.
Теперь я знал все. С трудом удерживался, чтобы не броситься на сеновал. Еле дождался, пока отец выбивал табачную золу и бродил по двору. На сеновале я хотел было выпалить все Петьке, но он, оказывается, тоже слышал весь разговор.
На другой день мы узнали, что Сеньшин отец с утра был на работе, а наших не было до вечера.
Отцу я не напоминал обещания; но осенью, когда мы уже ходили в школу, он сам сказал:
— Вылечили, Егоранько, того…
— Михайло Софроныча? — не удержался я.
— Ты откуда знаешь, как его зовут?
— Сам тогда сказывал…
— Вам?
— Нам.
— Ой, парень, смотри! Не верю я что-то.
Вечером в бане у Маковых, где Илья Гордеич поправлял зимние рамы, собрались наши отцы и стали «допрашиваться», что мы знаем. Сначала мы отмалчивались, потом это надоело. Петька махнул рукой и выпалил:
— Все знаем. Слышали ваш разговор.
— Чистая беда с вами, ребята! Не сболтните хоть!
— Мы-то? Это уж будьте в надежде! Умерло!
— Умерло! А Гриньше сказывали!
— Гриньше, конечно… Не маленький, поди, он.
— А Сеньше?
— Ну-к, Сеньша заединщик… Навсегда!
Угланята (углан) — баловники, шалуны (Прим. автора.)
Зарод - стог, скирд сена (Прим. автора.)