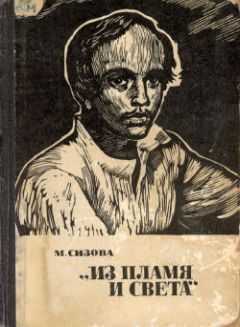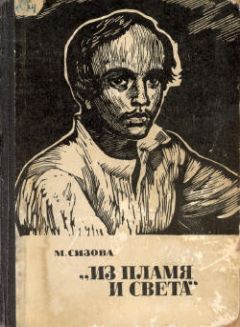Она на мгновенье остановилась и, открыто встретив его внимательный взгляд, просто сказала:
— Я пришла сюда потихоньку, потому что не могла бы жить больше, не увидав вас еще раз!
— И может быть, последний, — прибавил Лермонтов тихо.
— Последний?!. Разве это возможно?
— Это очень возможно, Варенька, потому что я обязан убивать горцев, а они будут стараться убить меня, и я должен признаться, что их желание справедливо и что мне следовало бы предоставить им эту возможность. Но я же не говорю, что я хочу этого, — сказал он, улыбнувшись. — Я люблю жизнь и хотел бы сделать бессмертным каждый день, если бы… если бы я был немного счастливее.
— А вы не чувствуете себя счастливым?
— А вы?
Варенька помолчала и посмотрела на свою маленькую дочь.
— Вот это мое счастье, — сказала она шепотом, — и еще… еще воспоминания, и мысли о вас, и музыка, и ваша растущая слава, которой я так горжусь!
Мне нужно уходить, но прежде чем я уйду, дайте мне слово, Мишель, что вы будете беречь себя. Если б вы знали, как я боюсь за вас! Как часто ночью просыпаюсь и думаю о том, что вы ранены, что вы убиты, что лежите окровавленный в какой-то пустыне! Скажите мне, вам очень трудно… очень страшно на этой войне?
— Нет, это не то слово, страха я не испытывал и, право, так привык к пулям, что больше внимания обращал на комаров. Трудно — да. Эта так называемая «служба» бывает часто кромешным адом. Таким адом была битва при реке Валерик, и вы должны простить меня за то, что поэму об этой страшной битве я посвятил вам. Это потому, что я ждал тогда смерти и думал о вас.
— Благодарю вас за «Валерик», благодарю вас за то, что вы думали обо мне тогда. Благодарю вас за то, что вы не забыли меня, и больше… больше я не спрашиваю ни о чем. Я счастлива и этим. А теперь прощайте!
— Варенька! Друг мой, подождите еще одну минуту! Я должен вам это сказать: я был не прав, когда говорил вам, что счастья не может быть. Я знаю теперь: оно пришло бы, если бы вы были со мной. Останьтесь, не уходите больше никуда! Вы же знаете, что вы моя и что, кроме вас…
Она положила руку на его губы и медленно покачала головой:
— Теперь слишком поздно, Мишель. Для жизни слишком поздно! Сердцем же я с вами… всегда.
— Боже мой, — сказал он, — что это я говорю?! Куда зову вас? Ведь я опять буду в том же аду, пока не придет и мой черед!
— Нет, нет! Судьба не может быть так жестока ко мне! Ведь я прошу у нее так немного! Я прошу только о том, чтобы судьба сохранила вас, а вы — память обо мне!
Она поцеловала его в лоб и взяла за руку свою девочку.
— Неужели мне нельзя проводить вас?
— О нет, Мишель, это невозможно! — испуганно ответила Варенька. — Совсем невозможно!
— И нельзя посмотреть еще раз на ваше лицо?
— Это можно.
Варенька повернула к нему голову, и Лермонтов долго смотрел в ее лицо.
* * *
Утром горничная Вареньки подала ей письмо, которое принес посыльный.
— Его почерк почти не изменился, — прошептала Варенька, вскрывая конверт, — как и он сам.
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь сочилася моя.
Она дочитала до конца и долго сидела молча, опустив руки и устремив куда-то перед собой неподвижный, потемневший взор.
— Вы так бледны сегодня, как будто чем-то расстроены, — сказал Николай Федорович Бахметев, усевшись в карету рядом с женой.
— О нет, — сказала Варенька, — я очень спокойна… и совершенно счастлива.
— Я надеюсь, — ответил Бахметев слегка обиженным тоном и велел кучеру трогать.
Июльское солнце заливает Пятигорск зноем и светом. В ресторации почти весь день пусто, и только из открытых окон бильярдной слышится по временам стук шаров.
В воскресенье — это было 13 июля — душное марево зноя стояло над городом с самого утра.
Вдали за горами медленно ползли облака и потом расплывались в туманную пелену.
Где-то за вершинами Бештау медленно собирались тучи.
К вечеру они плотно закрыли сначала Бештау, а потом и Машук. В большие, открытые во всю ширь окна верзилинского дома можно было видеть, как где-то далеко-далеко вспыхивали беглые зарницы.
Вечер не принес прохлады, и Надин Верзилина решительно объявила, что в такую духоту у нее нет ни малейшего желания куда-то идти и лучше потанцевать дома. Она попросила князя Трубецкого:
— Вы нам сегодня сыграете, хорошо?
Трубецкой поклонился и сел к фортепьяно.
— Чем прикажете открыть бал? — улыбаясь, спросил он Надин. — «Польским», как на придворных балах, или вальсом?
— Вальсом, конечно, вальсом! — весело крикнула она. — Впрочем, подождите! — Надин остановилась и оглядела гостей. — Я так и знала: Мишеля еще нет! Всегда по воскресеньям приходит за нами, а сегодня как нарочно его нет! Нельзя же начинать наш бал без Мишеля!
Мартынов стоял у фортепьяно.
— Как хороша ваша новая черкеска, Николай Соломонович! — проговорила Мария Ивановна, усаживаясь в кресло, чтобы посмотреть на танцы.
— Я удивлен! — воскликнул Мартынов. — Вы обратили внимание на меня, человека, не блещущего никакими талантами. В последнее время, после того как в вашем доме появились гении, моя скромная особа перестала вас занимать, а равно и ваших дочерей.
— Это вы на Мишеля намекаете? — простодушно спросила Мария Ивановна. — В таком случае вы не правы. Мишель сейчас, конечно, в центре нашего внимания, и, можно сказать, им интересуется весь Пятигорск. Но это потому, что он здесь редкий гость и скоро опять отправится на войну, и, кроме того, он всеми признан нашим лучшим поэтом. А ему всего двадцать шесть лет! Ах, что за чудный возраст!
— Я замечаю, Мария Ивановна, что, когда вы говорите о Лермонтове, у вас даже меняется выражение лица.
— Бог с вами, Николай Соломонович, — Мария Ивановна укоризненно покачала головой. — Лучше уж вы, голубчик, замечайте то, что есть на самом деле, а не то, что вы себе вообразили. Вот и мои дочери! Пора вам танцевать, хотя просто не представляю себе, как можно танцевать в такую жару. Мне и без танцев нынче дышать нечем.
А как вам нравятся их туалеты? Не правда ли, как мило? Особенно эти цвета — белый и голубой — идут моей Надин!
— Она прелестна, как всегда. Но почему сегодня такое обилие белого и голубого? Уж не являются ли эти цвета знаком какого-нибудь тайного общества? — иронически усмехнулся Мартынов.
— Какое тут тайное общество! — добродушно засмеялась Мария Ивановна. — Просто эти два цвета — любимые цвета Мишеля, вот все дамы наши и нарядились так, чтобы ему понравиться. Ну и мои дурочки — первые затейницы.
— Это великолепно, — сквозь зубы проговорил Мартынов.
— Алексей Аркадьевич! Где же ваш кузен? — спросила Эмили появившегося в дверях Столыпина.
Столыпин пожал плечами.
— Я думал найти его здесь, потому что дома его кет.
— Ну что ж, Лермонтов может быть доволен, — сказал с усмешкой Мартынов, — пятигорские дамы так мечтают о его расположении, что даже оделись по его вкусу.
Эмили сказала с упреком:
— Ах, мама, ну зачем говорить такие пустяки! Вы всем рассказали об этой басне!
Но ее сестра весело заявила:
— А я не скрываю! Мы оделись так для Мишеля, хотя знаем, что ему это совершенно безразлично, и все же не сердимся на него. Но ждать его больше не будем. Вальс начинается!
— Valse s'il vous plâit! — возгласил по всем правилам Трубецкой, и пары закружились.
* * *
Мартынов подал руку Надин.
— Я считал своим долгом предупредить вас.
— За что вы его так не любите? — пожимает плечиком Надин. — Ведь он ваш старый товарищ!
— Он перестал им быть с тех пор, как я узнал его образ мыслей, — говорит Мартынов. — Я вовсе не желаю ему зла, я только хочу вас предостеречь — вот и все.
— Благодарю вас, но мне не грозит никакая опасность!
В дверях появляется Лермонтов — запыхавшийся, бледный, усталый.
— А, пропавший явился! — говорит хозяйка. — Кто же это вам позволил так опаздывать?
— Опоздавшие будут наказаны! — весело кричит Надин.
— Помилуйте, Надин, ведь я из Железноводска примчался! Я туда уже с неделю как кочую, ванны брать. И опоздал только на первый вальс, зато достал вам эти розы. Раздайте их, Надин, всем дамам, и давайте покружимся, я надеюсь на второй вальс.
— Ты задержался в Железноводске? — удивляется Столыпин.
— Нет, Монго, в других местах.
— Николай Соломонович, ты великолепен! Если бы я был дамой, я непременно влюбился бы в тебя. Главное — какой кинжал! Твой вид поражает воображение.
Мартынов резко поворачивается к нему спиной и отходит от рояля.
— Не шути над ним больше, Мишель, он совсем не так добродушен, как ты думаешь, — тихо говорит Столыпин. — А я пойду домой и, вместо того чтобы танцевать в такую духоту, лягу спать.