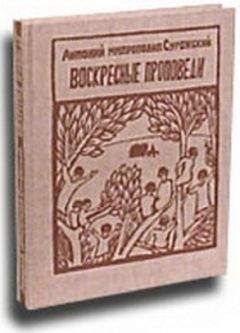— Не умеешь? — спросил Сашка. — Не бойсь, научу: Я даже в ноздрю умею. Понял? — Сашка вытащил из кармана вельветки две пожелтевшие сплющенные папиросы. — Бери, не стесняйся... — Чиркнул спичкой и поднес дрожащий на ветру огонек напарнику. — В себя тяни, в середку! — сказал он.
Ванята потянул горький теплый дым, закашлялся и схватился рукой за грудь. Все поплыло, завертелось перед его взором — и березка, и небо, и злосчастный друг-приятель Сашка.
Ванята перевел дух, поглядел на черный обуглившийся кончик папиросы и швырнул ее в сторону.
— Фы-ых! — сказал он, выдыхая из себя остатки дыма и копоти. — Фы-ых!
Сашка засмеялся. Он курил без передышки, пуская по очереди из правой и левой ноздри густые серые клубы дыма. Лицо его налилось пунцовой краской, в глазах мигали две крупные, как горошины, слезины.
— Я без папирос не могу, — отставляя в сторону пальцы, сказал он. — С детства курю. — Посмотрел, какое впечатление произвело на Ваняту это ценное признание, и добавил уже совсем из другой оперы: — Зря ты на меня дуешься. Думаешь, я такой, да?
— Иди ты, — отмахнулся Ванята. — Я тебя еще вчера раскусил. Все понял.
— Не-е-т, — протянул Сашка, — тебе ничего не понятно. Это я просто так непонятно устроен. Если хочешь знать, даже врачи удивляются. Говорят, с виду он, товарищи, такой, а в середке совсем другой.
— Какой такой другой?
— Особенный, значит. Ты думаешь, я повязку зачем ношу? Не знаешь? То-то и оно! Я никому не рассказывал, а тебе скажу. Только об этом — ша! Понял?
— Ну?
— Вот тебе и ну! — передразнил Сашка. — Это мне врач велел повязку носить. У меня во рту тридцать зубов обнаружено. У всех тридцать два, а у меня — тридцать. На рентгене просвечивали...
— Ну и что там высветлили?
— Феномен я. Понял? У меня даже места для остальных зубов на деснах не нашли. Не-ет, ты не смейся! Врач сказал — это исключительный случай. В музей нас водил. Там в этих банках всего понапихано. В спирту. Врач отцу так и сказал: «Буду с него книгу писать. Для научной цели». Дошло?
Ванята рассмеялся.
— Ну и дурак же ты, Сашка! Прямо хоть стой, хоть падай!
— Значит, не веришь, да? — возмутился Сашка. — Эх, ты! Тебе говорят, а ты!..
Сашка Трунов быстро отслонил рукой вздувшийся на щеке бинт и открыл рот.
— Ш-шитай! — не закрывая рта, прошепелявил он. — Ш-шитай, раз ты такой...
Ванята не стал исследовать зубную полость козюркинского феномена. Поднялся и сердито махнул рукой.
— Ну тебя к лешему! — сказал он. — Сам ш-шитай, если хочешь.
Темно и глухо, будто в погребе, было у него на душе от дурацкой Сашкиной болтовни. Нет, видимо, в самом деле не хватает у Сашки в голове какого-то очень важного и нужного для жизни винта.
Ванята плюнул сгоряча под ноги, ушел от Сашки и сел в сторонке. Даже отвернулся, чтобы не видеть, не смотреть на эту перевязанную бинтами личность.
— Ладно-ладно! — крикнул Сашка. — Ты еще у меня посмотришь! Ты еще узнаешь! Отец вам ничего не простит. Посмо-о-тришь!
Но слова эти уже прыгали мимо ушей Ваняты, не задевая сознания. Он только морщился и злобно шептал про себя: «Дурак, ну и дурак!»
И трудно было сказать, к кому относились сейчас эти слова — к Сашке или, может быть, к нему самому.
А жизнь между тем шла своим чередом, независимо от Ваняты, Сашки с его уникальными зубами и его отца, который никому ничего не прощал.
Один за другим кончали ребята свои свекольные рядки, выходили с поля, как из речки, садились на травяную обочину, поджав к подбородку колени.
Последним выбрался Ваня Сотник. Отряхнул руки, поправил комбинезон и, строго оглядев всех, сказал:
— Ребята! Анна Николаевна прогнала Сашку Трунова с поля. Он там такого набуровил, аж смотреть страшно. Тип, в общем... Платон Сергеевич узнает, как мы тут пропалываем, обратно в больницу сляжет. Он же не перенесет этого. Я его знаю. Он...
Ваня Сотник метнул в Сашку взгляд, как палку запустил в него.
— Что нам теперь с этим охламоном делать? Думайте...
Вокруг зашумело, загудело.
— Доло-ой!
— Гнать Сашку!
— На мыло!
— В погреб паразита!
И только помалкивали братья Пыховы. Виновато и смущенно слушали, что шепчет им сидевший рядом Сашка.
— Вы чего молчите? — спросил Пыховых Сотник. — Тоже мне выдумали! Вы не согласны, да? Вы это чего? Ну!
Братья Пыховы сначала покраснели, потом, не сговариваясь, отвернулись от Сашки. Пыхов Ким вправо, а Пыхов Гриша влево.
— Я кого спрашиваю, Пыховы?
Пыховы молчали. Сидели, не меняя позы, как рыжий двуглавый орел, которого видел Ванята у деда Антония на старых царских деньгах.
Молча ждал, чем кончится Сашкино дело, и Ванята Пузырев, Все замерло, сжалось в нем, будто летел он вниз головой в страшную черную пропасть,
По свекольному полю возвращалась от колхозниц Анна Николаевна. Подошла к ребятам, спросила Сотника:
— Как тут у вас?
— Обсудили, Анна Николаевна... в общих чертах. Вас ждем...
Анна Николаевна села на бугорок, положила на согнутое колено блокнот, стала что-то писать, Подтянет нижнюю губу, пошевелит бровями и снова пишет. Но вот закончила. Поднесла блокнот к глазам и сказала:
— Смотрите, что у меня получилось... Саша Трунов прорывал свеклу как попало. Из каждой свеклы на заводе могли получить пять кусочков сахара. Теперь сахар погиб. Пятьдесят килограммов потеряли на одном рядке!
— Ого! — воскликнул Пыхов Ким, — В самом деле, пятьдесят?
— Точно! Полмешка сахара. Одному человеку целый год чай пить.
Анна Николаевна спрятала блокнот, спросила Сашку:
— Ну вот, теперь скажи, пожалуйста, кого ты без сахара оставил? Чего молчишь!
Не ожидая Сашкиного ответа, ребята подняли вой,
— Гнать Сашку!
— Долой!
— На мыло!
Молча сидел бригадир Сотник, смотрел по очереди на Сашку и Ваняту. Серые, с маленьким черным зрачком глаза его светились недобрым огоньком, Казалось, подойдет он сейчас к Ваняте, возьмет за шиворот и встряхнет как мешок с сахаром,
«А ты, Пузырев, чего молчишь? Тебя это тоже касается!
Дрейфишь, да?»
Ванята ерзал по земле, как на горячей сковородке, на которой чумазые черти жарят в свое удовольствие грешников и разгильдяев,
Но Сотник ничего подобного Ваняте не сказал. Только еще больше помрачнел.
— Надо решать оргвопрос, — обернулся он к агроному. — У меня есть предложение. — Бригадир Сотник встал, поправил на комбинезоне ремень и голосом торжественно-печальным, как на похоронах, сказал: — Предлагаю исключить Трунова из бригады. На всю жизнь.
Все притихли, смотрели на Анну Николаевну и на своего сурового друга Ваню Сотника.
— Я согласна, — сказала Анна Николаевна. — Только у меня есть поправка: давайте исключим Трунова условно. Если он еще раз... Голосуй, Ваня!
За оргвопрос с поправкой агронома проголосовали все. Ванята поколебался минуту и, встретив еще раз недобрый взгляд Сотника, тоже поднял руку.
Пробежало пять дней. Прыг-скок, прыг-скок и допрыгали до воскресенья.
Каждый день ждал Ванята, что все обнаружится, раскроется, и ему намылят шею. Несколько раз хотел он честно признаться ребятам, но все тянул и тянул... Теперь каяться было уже стыдно. Эх, если б повернуть все иначе!
В воскресенье Ванята первый раз в Козюркине пошел на рыбалку.
Он сидит нахохлившись возле старой черной коряги и смотрит на поплавок.
Рядом с ним Марфенька в коричневом, похожем на шляпку гриба, берете.
Два дня назад Ванята сообщил ей, что пойдет на речку, и показал заветный щучий крючок.
— Если хочешь, можешь идти, — разрешил он. — Посмотришь, как я этих щук таскать буду.
Марфенька не знала, что рыбаки приглашают в компанию для отвода глаз. На самом деле они — заядлые одиночки-молчуны. Но это не от прихоти и характера рыбаков, а от самой рыбы. Она не любит, когда рядом топают, разговаривают, шмыгают носом. Говорят, рыба не возражает против тихой, ласковой песни. Но это уже когда как придется...
Берег сползал в воду широкой песчаной полосой. Не затихая, струилась по ней, будто живое золото, волнистая рябь, омывала лиловые, затонувшие листья тальника.
Лишь изредка пробежит по дну суетливая тень малька и скроется в глубине. Настоящая рыба упорно не хотела ловиться. Гусиный поплавок с ярким красным кончиком равнодушно покачивался на мелкой стержневой волне.
У Марфеньки удочки не было. Она сидела просто так, мешала Ваняте сосредоточиться и поймать обещанную щуку.
Марфеньке надоело сидеть и смотреть на поплавок.
— Брось свою щуку! — ныла она. — Все равно не поймаешь. Брось!..
Ванята сердился, отпихивал Марфеньку локтем.
— Отойди, говорю. Слышишь?!
— Бро-ось! Ну, бро-ось, — тянула на одной ноте Марфенька.