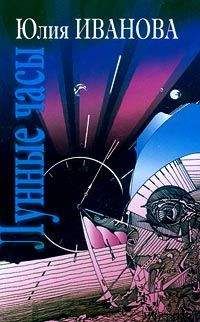Борис дернул меня за руку. Мы ушли без Марфы, сделав вид, будто думаем, что она еще спит.
Было полседьмого утра. Над водой курился жиденький туман. Пароход в Малышевке — так называлась деревня — стоял долго, и все, кто не спал, сошли на берег.
На причале я вдруг опешил: тот самый мальчишка, стукнувший вчера меня в челюсть, бродил по доскам. Он как ни в чем не бывало доставал из газетного кулька ягоды черемухи и бросал в рот. Его маленькие неровные зубы потемнели от сока, на губах и правой щеке краснели пятна от раздавленных ягод.
Я вздрогнул и плотнее прижался к брату.
Мальчишка заметил меня и улыбнулся, как старый знакомый. Я сделал вид, что не замечаю его, и отвернулся. Но минут через пять мальчишка опять оказался рядом и даже протянул мне кулек с черемухой. Вообще-то мне нестерпимо хотелось взять хотя бы одну щепотку блестящих ягод, но я поглубже загнал руки в карманы и высокомерно заявил:
— Благодарю. Не хочется.
И еще плотнее придвинулся к Борису.
Вверху, на улочке с деревянными тротуарами, уже бойко шла торговля, предприимчивые сибирячки предлагали нам яички, редиску, желтый варенец в стеклянных банках. Но чему больше всего удивился я, так это клубнике. В Сибири, оказывается, поспевает клубника! Ну и ну! Она была некрупная, лесная, но от тонкого аромата ее у меня прямо-таки ноздри раздувались!
Борис, видно, тоже был поражен клубникой и, расщедрившись, купил у старухи в красном платке сразу пять кульков. Один протянул мне, бросил: «Смотри не опоздай», — а с другими кульками зашагал по узкому проулку вниз, к причалу.
«Марфе», — тотчас сообразил я, и без брата мне стало как-то тревожно и не по себе.
А когда я увидел, что ко мне идет тот самый страшный мальчишка, драчун и забияка, я хотел… спастись бегством. Только уже было поздно. Мальчишка стоял рядом. Кулька с черемухой у него уже не было: слопал.
— Дай-ка попробовать! — Он сунул руку в мой кулек, взял три самых крупных ягоды и бросил в рот.
Я огляделся: Борис давно исчез на пароходе. Тогда я, съев только три ягоды, решил отдать мальчишке весь кулек. Лишь бы не дрался.
— На, бери весь.
— А ты?
— Я уже наелся. Живот болит.
Мальчишка недоверчиво посмотрел на меня своими крошечными, глубоко упрятанными глазками, повел широкими бровями и сказал:
— Давай.
Он взял кулек за кончик, вытряхнул содержимое на свою большую ладонь и в две минуты расправился с горкой ароматной лесной клубники. А я стоял рядом и глотал слюну. Что мне оставалось еще делать?
— Тебя-то как звать? — спросил он. — Вовкой, кажись? Ну, так я Гошка. Давай лапу. — Шумно выплевывая зеленые звездочки клубничных листков, он так пожал мою ладонь, что я сморщился от боли.
Пока с парохода сгружали почту, какие-то ящики, мешки и бочки, мы с Гошкой лежали на зеленом взгорке и смотрели, как через Ангару в город Балаганск, расположенный на другом берегу, двигался паром. Гошка жевал травинку и рассказывал, что гостил в Иркутске у старшего брата, архитектора, бывал и в цирке, и в театре, и на Иркутской ГЭС, и даже ездил на массовку к Байкалу, а теперь вот соскучился по своей деревне и раньше срока возвращается домой.
— Так один и едешь? — спросил я.
— А чего там! — Гошка перевернулся на спину и, раскинув сапоги, посмотрел в небо.
— Совсем один?
— Чудило ты огородное! А что, меня кто-нибудь съест или укусит?
Я незаметно скосил в сторону глаза и тихонько вздохнул.
Я был доволен, узнав, что Гошка живет рядом с поселком, куда едем и мы, и я страшно обрадовался, услышав, что Гошкин дед — известный на Ангаре лоцман, много раз проводивший суда через бешеные пороги, а отец работает шкипером на барже: «обеспечивает» переправу с Левого берега на Правый строительства гидроэлектростанции…
Я не знал точно, что делает лоцман и почему он так называется, но спрашивать у Гошки было неловко, к тому же из его слов можно было кое о чем догадаться.
— А знаешь, кто моя сестренка? Мошкодав. И тоже на стройке.
— Кто, кто? — не понял я.
— Ну, какой ты бестолковый! Мошку уничтожает. Знаешь, как мешает она строителям? Постой, наглотаешься ее, начешешься до крови, сам увидишь…
Резкий гудок парохода заставил меня подскочить с травы. Гошка продолжал лениво валяться на земле.
— Опоздаем ведь, отстанем! — взмолился я, дергая Гошку за ногу и страшно волнуясь.
— Не бойсь. Это у него не последний сигнал.
Медленно, не роняя своего мужского достоинства, Гошка поднялся, отряхнулся, огляделся и, придерживая меня за локоть — все во мне так и рвалось вперед! — неторопливо зашагал к причалу.
Все пассажиры были на пароходе, и матросы готовились убирать трап, когда мы с Гошкой явились на причал.
Пароход отвалил от стенки.
Река то казалась дикой и незаселенной по берегам, то удивляла обилием судов, барж, лодок.
Чаще всего наш пароход приставал к причалам, но там, где их не было, прямо на берег спускали длинный трап, и загорелые крепкие старухи и мужчины в кирзовых сапогах сходили на землю, поудобней пристраивали на плечах узлы и чемоданы и, не оглядываясь, уходили к деревням, а то и в глухую тайгу.
Впрочем, слезали немногие. Большинство пассажиров следовало до последней остановки, туда же, куда и мы с Гошкой, — на стройку.
Странное дело, я не спал ночь, но совсем не чувствовал себя разбитым. Гошка не давал ни минуты покоя, и мне даже некогда было предаться раздумьям.
Для Гошки не было запретов, и хотя черная надпись строго запрещала пассажирам третьего класса ходить по первому и второму, Гошка отважно водил меня по чистеньким, устланным коврами коридорам, бегал по всем салонам, верхней и нижней палубам, заглянул в медпункт, где помирала от тоски и безделья фельдшерица в белом халате.
Гошка везде поспевал: помог спустить на берег трап, снес вещи какой-то древней старушке, и матросы звали его по имени. Нас не выгоняли из красного уголка, предназначенного для команды, где мы, корчась на диване от смеха, листали «Крокодил».
С Гошкой было совсем не опасно, и я даже потрогал на носу парохода небольшой медный колокол (некогда церковный, но не главный, а подголосок, как объяснил Гошка) с выбитыми странными словами с твердыми знаками.
Гошка научил меня лежать на самом носу и наблюдать сквозь отверстие, по которому движется цепь с громадным якорем, как острый форштевень разворачивает тугую и быструю воду и она, прозрачная и ледяная, двумя крыльями расходится по носу парохода, клокочет, шуршит, обтекая корпус. От напора Ангары якорь вздрагивал и покачивался, борт звенел и стонал, цепи мелко дрожали…
Часами готов был смотреть я на это зрелище.
— Хватит! Разлегся, как тюлень! — проговорил Гошка и силой оторвал меня от этого невиданного зрелища и поволок в машинное отделение, где четко и оглушительно работала судовая машина и была сахарская жара.
Потом Гошка звучно похлопал по худому животу, потянулся, скривив позвоночник, лениво и сыто сощурился, зевнул в ладонь и кинул:
— Старика навестим, что ли? — Он кивнул куда-то вверх.
— Какого старика? — не понял я.
— Кого… Капитана, кого же еще. — И он полез по трапу к капитанскому мостику.
Нет, это уж было слишком. Меня точно болтами прикрутили к палубе.
— Шагай, — небрежно бросил Гошка, — он не ест детей.
И застучал сапогами, удаляясь.
Я ринулся следом.
— Крепче толкай дверь! — крикнул из рубки Гошка, который уже о чем-то беседовал с людьми в форме речников.
— Как дедуся? — спрашивал у него пожилой человек в сбитой на затылок мичманке. — Отводил свое. На печи, поди, лежит, кости греет?
— Ну да, — Гошка презрительно скривил губы, — еще одна проводка будет. Баржа для переправы нужна. Большого тоннажа.
— Ого! — воскликнул молодой у штурвала. — Через пороги?
— А то как же, — солидно, чуть нараспев ответил Гошка, — не посуху же, не по тайге!
— Ай да дед!: — Пожилой вытер лоб. — Я думал, угомонился. А может, сочиняешь все?
Похоже было, что Гошка чуть обиделся.
— Ну вот, стану я брехать! Сам от брата сбежал; домой еду, на катер хочу попасть, чтобы через пороги…
— Глядите, какой шустрый!.. — Молодой у штурвала не спускал глаз с реки. — Тоже в лоцмана метишь?
— Не знаю, — уклончиво ответил Гошка, — пока вырасту, много воды в Ангаре утекет.
— «Утечет» надо говорить, — сказал пожилой. — А в общем-то ты прав: поставят плотину, подымется вода, скроются на дне пороги, забудут, где они и были… Так что торопись, хоть кроху дедовского хлеба возьми на зуб…
— То-то и оно, — рассудительно сказал Гошка, — иначе б не сбежал от брата. Когда еще случится, чтобы через пороги…
Я ошеломленно слушал его. Так вот оно в чем дело! Гошка, оказывается, не очень точно объяснил мне в Малышевке причину бегства от брата…