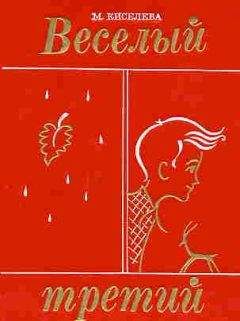Старушка нахмурилась.
– Не дышите тут. Людям спать, а вы вином дышите.
– А они, может, кушать хотят, – ехидно сказал старик.
– Нет, что вы, – ответила мама. – Спасибо.
Она села на стул и уставилась в угол, на большую икону, перевитую сухими цветами. Губы у мамы медленно двигались. Старушка посмотрела на неё удивленно.
– Ты, девка, никак молишься?
Мама вздрогнула.
– Нет, – сказала она. – Что вы…
Старушка пошла к двери тихо, почти бесшумно.
– И то… Без толку молиться, без числа согрешить…
Она положила Славке на плечо мягкую руку, подтолкнула его вон из комнаты.
– Пусть мамка одна побудет. Ступай, хлопец, в кухню.
Славка сам хотел уйти. Он знал: когда у мамы шевелятся губы, – значит, она придумывает гневные фразы, которые с выражением, словно стихи, выскажет при встрече отцу. Славка подумал: «Люди очень любят говорить вслух, но ещё больше любят говорить про себя. Про себя они спорят с кем хочешь и всегда побеждают».
На кухне бабка Мария сдержанно и негромко напустилась на старика:
– Василий, сгорят у вас кишки синим огнём.
– Не бухкотите, Мария, – возразил старик. – Я только один килограмм вина выпил и кружку пива. Только глаза залил, а во внутренности даже и не попало.
Старуха вздохнула.
– Глаза, им границы нету. Лучше бы вы, Василий, в домино гуляли. Старый вы теперь для вина человек.
– У меня такое мнение, будто вы меня отпеваете. – Старик подёргал сивыми бровями, спросил обиженно: —Мария, я замечаю, вам про дочку мою, Анну, узнать совсем не интересно. Как она в Новороссийске живёт. А она, между прочим, вам поклон посылала… – Старик встал из-за стола и поклонился, отведя руку в сторону.
Старуха поджала губы. Потом заговорила тоже с обидой:
– Я у вас про Анну и не желаю сейчас пытать. Вы станете только хвастать зазря и ничего мне толком не объясните.
Старик засопел, словно ему вдруг заложило нос. Он глядел на старуху то сердито, то снисходительно. Потом глаза у него подобрели, в них появились смешливые огоньки, которые побежали по всему лицу, по всем стариковским морщинам.
Поев, старик залез на кровать и затих, выставив бороду вверх, как антенну.
Славка хлебал уху, которую старик Власенко называл щербой. Ел ватрушку, которую бабка Мария называла плачиндой. Было ему тепло и свободно. Славка думал, что больше всего на свете он теперь любит щербу и плачинду.
Бабка Мария убирала посуду.
– Ты, хлопец, не думай на деда,– тихо говорила она разморенному Славке.– Он не какой-нибудь пьяница там, мазурик. Он с шести лет рыбалит. У него аж кости от ревматизма чёрные. Выпьет килограмм вина для здоровья. Ему, старику, иногда можно.
– А я ведь, Мария, не пьяный, – сказал старик неожиданно ровным и грустным голосом. – Я ведь, Мария, только самую малость, для запаха. Я по другой причине хвораю… Вот ехал на пароходе. На самолете летел. Кругом люди шуршат. Бегут за своим делом. Мне, Мария, вдруг показалось, что ни к чему я уже. Умру, и никто не вздрогнет. Мабуть, Анна, да ещё вот ты, Мария Андреевна… Вот я и шумел, прыткость свою показывал. Я ведь теперь, как тот «Шура»… – Старик засмеялся, будто закашлял.
– У нас на рыбзаводе такой буксир имелся. По имени «Шура». Три дня паров набирал, только чтоб загудеть. А гудок у него самый шумный на всём побережье. Как загудит «Шура», аж задрожит весь. Потом три дня набирает паров, чтобы отвалить от пирса. А как уж он по воде ходил, на какой силе, этого и сам бог в свою голову не возьмёт. Теперь того «Шуры» нету, теперь он вроде как баржа. А говорят, раньше, в мирное время, лихой буксир был…
Старик повернулся к стене. Спина у него была костлявая и упрямая.
– Не приедет Анна, – грустно забормотал он. – Ненужный я теперь для неё.
Бабка Мария наклонилась над столом. В её голосе тоже была грусть.
– Не для того она и училась, чтобы без дела к нам ездить. У неё сейчас заботы-то обо всех. Учёная, с неё и спрос велик.
Бабка Мария смотрела в окно, за которым ничего не было.
– Вырастают дети плохие – и думают, что родители в том виноваты. Вырастают дети хорошие – и думают, что родители тут ни при чём…
Славка тоже посмотрел в окно, за которым ничего не было, и уснул. Во сне он увидел ту конечную станцию, где сходятся все пути и дороги. Она выпирала из земли бугром, вся утыканная домами. Топорщились небоскрёбы. Исаакиевский собор, Кремль, Эйфелева башня – самые красивые сооружения, которые Славке приходилось видеть на картинках. Вокруг стояли поезда, пароходы, самолёты. Они громко трубили. Им не терпелось ехать куда-то дальше.
– Вставай, хлопец, день уже окна выламывает, а ты всё подушку сосёшь.
Славка вскочил. Поплескал холодной воды в глаза. Мама и бабка Мария пили в кухне чай.
– Отца не ищи, – наказала мама. – Пускай хоть однажды он сам нас поищет.
– Пошли, хлопец, со мной на службу, – предложил дед. – Тут женщины меж собой побеседуют, мабуть, разберутся сообща в вашем деле. Тебе дамские разговоры понимать не надо.
– Иди, – коротко разрешила мама.
Городок согревало солнце. Ветер смешивал запахи пашен, открытых хлевов и моря в один сильный и тёплый запах.
Со стариком Власенко здоровались прохожие, всё больше пожилые, неторопливые. Со Славкой тоже здоровались.
Славка думал о вчерашнем мальчишке в спортивной куртке. Он таращился по сторонам, надеясь на встречу. Он представлял, как протянет руку ему. Скажет: «Привет! Как дела?» И мальчишка ему ответит: «Привет! Как дела?!» Они поговорят и пойдут вместе. Славка даже сделал намёк старику, спросив:
– Где же в вашем городе ребята? – Может быть, старик Василий вспомнит мальчишку и чего-нибудь скажет о нём.
– Молодые ж кто где, – объяснил старик. – Которые в море на сейнерах, которые на рыбзаводе или там на консервном. Они на работе все чисто. Утром в городе старики власть берут. – Он остановился, посмотрел в даль сквозных бело-розовых улиц. – Когда капитан Илья пригонит из Одессы флотилию, город совсем опустеет. Все побегут в Африку. Все чисто.
Дед Власенко шёл на рынок.
– Это моя общественная служба, – говорил он. – Я – рыбнадзор от народа. Рыбак тоже бывает разный. Иной надёргает недозволенной рыбы и подзаныр её – продаст на базаре.
– Маломерку выловят, – и большая ловиться не будет, – рассказывал он по дороге. – Это дело везде по-разному называется. В Крыму говорят – муган. У нас – подзаныр. По закону – браконьерство. А что касается меня, то я такому рыбаку в глаза плюну.
Славка вертел головой, рассматривал город. В центре были каменные дома, трёхэтажные и четырёхэтажные.
В витрине «Госфото» висели подкрашенные портреты.
– Здесь мой знакомец Яша Коган работает, – уважительно похвастал дед Власенко. – Он теперь тоже старый. Уже который год на ощупь снимает.
В витрине универмага, среди пальто и велосипедов, были разостланы картины. На одной – Максим Горький в широкой шляпе, на другой – Суворов весь в орденах… На бланках, приколотых к картинам, значилось: «Наименование—„Картина Горького“. Цена за один метр 15 рублей».
Метр Суворова стоил на пять рублей дороже.
Славка спросил у деда:
– Почему разница?
Дед поскрёб бороду, шевельнул сивой бровью.
– Я, хлопец, в рисовании мало чего понимаю. Может, на Суворова больше краски пошло, у него одних орденов вон сколько.
Старик Власенко с грустью подмигнул полководцу, сказал задумчиво:
– В большом возрасте был человек, а тоже вон какой бойкий… – и заспешил к рынку.
В начале лета на базарах народу мало. Что продают? Старую кукурузу продают, муку, молодых поросят.