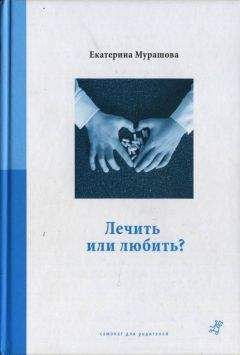Давились зубной пастой, выплевывали ее на траву и ждали, пока от нас перестанет пахнуть табаком. И смотрели на поле.
Поле, перевалив за тот самый бугор с асфальтовой дорогой по кромке, обрывается скосом к Ярославскому шоссе, а сверху — от земляники и берез — всегда казалось, что оно разбегается прямо к горизонту травами, отливающими на хохолках сиреневым.
— Красиво, — прошептала сестра-Ася.
К августу поле станут косить, и тогда можно будет лежать в маленьких стогах и часами смотреть, как идут по небу облака, превращаясь в слонов, ящеров и троны с невидимыми правителями. А еще мечтать, как мы убежим — или просто уйдем в поход — гордо, всей улицей. За спиной у нас будут парусиновые, болотного цвета рюкзаки с буханкой моего любимого круглого хлеба, солью и обязательно чесноком.
Симка с Пашкой будут разжигать костер — у них это здорово получается — и ловить в Дубне рыбу. А мы с Полинкой сначала поручим сестре-Асе почистить картошку, которую раскопаем в деревенских полях, — и изжарим рыбу на прутиках. Можно будет горбушку густо натирать чесноком и солью, а после ужина сидеть у костра и смотреть, как светлая полоска на горизонте истончается, окунаясь в темноту леса, за которым где-то — ручьи и лепрозорий, сигнальная башня у города Краснозаводска, что с самого детства подмигивала нам по ночам красным глазом, и загадочные пруды в лесу, за вырубкой, где водятся кабаны и вкусная малина.
Мы засобирались домой — вдруг бабушка нас уже хватилась. Автобус, выписывающий запятую поворота, вдруг притормозил, и веселые мама с папой спрыгнули на землю: влезайте, подвезем.
«Гастроли» или «выезды» назывались такие спектакли.
Этим летом всюду раскатывал «Авария, стой!». Спектакль не для меня. Вот «Щелкунчик» — это совсем другое дело. Там падали сверху почти всамделишные снежные хлопья, многоголовый Мышиный король появлялся, выплывая снизу, из ада, в развевающемся угрожающе плаще, а в бархатной черноте распускались одна за одной волшебные розы под «Вальс цветов». Это было — волшебство.
А «Авария, стой!» — просто история для малышей, которые еще плохо знали правила дорожного движения.
Я тайком выдыхала под нос, выдвинув вперед нижнюю губу — проверить, не воняет ли от меня куревом, чтоб мама с папой не заметили. В автобусе смеялись, кто-то дурачился. «Громче всех слышно дядю Колю», — шепнула мне на ухо сестра-Ася. Он самый горластый и волосатый. На по-обезьяньи волосатой груди у него — крестик, и когда он не в костюме из спектакля, то похож на какого-то старообрядца. Только не такой серьезный и много болтает. «Балабол», — говорят про него мама и папа.
— В «Аварии, стой!» дядя Коля играл сегодня милиционера, — сказала мама.
Он шутливо погрозил нам милицейским жезлом.
Милиционера-то нам и нужно, поняла я. Для Пашки.
Симка мыл посуду — вода текла из покосившегося уличного крана в красный тазик. Он с детства аккуратный был, Симка — сам убирался, готовил и мыл за собой посуду. Не чета нам, неряхам, — нам бы «задрав хвост — и на улицу», как говорила наша бабушка.
Полинка сидела на огромном, сером от дождей верстаке, свесив ноги, и походила на гномика, случайно попавшего в человеческое царство.
— А что? Быстро и верно. Милицию боятся все. Только вдруг у хулигана сердце екнуло в груди…
— Это все ж таки не хулиган, а наш Пашка, — Полинка даже ногой перестала качать, услышав про дядю Колю-милиционера.
— Он что ли испугается и перестанет? — переспросила сестра-Ася. — Как преступник?
— Да ну, какой там преступник, — отмахнулся Симка, — это ж все понарошку. Просто так, чтоб чуть-чуть перепугался и перестал.
— И давайте потом ему скажем, что милиционер был фальшивый, — попросила добрая Полинка.
Теперь-то Пашка наверняка перестанет, решили мы. Только сестра-Ася все повторяла: «Как преступник!» и мечтательно смотрела куда-то вдаль.
Дядя Коля оторвался от картошки с укропом, с шутками натянул огромные перчатки с раструбом, нахлобучил фуражку и взял жезл, похожий на кусочек от зебры. И мы пошли.
Шли гуськом — к Пашкиному дому, — а рядом, чеканя по-милицейски шаг, дядя Коля.
— … и теперь ты больше не будешь убивать бабочек! — строго подытожил дядя Коля. — Понял?
Пашка молчал и только менялся в цвете. Мне стало его ужасно жалко — больше даже, чем Жорика. Жалость стукнула в голову, прихлынула к ушам кровью — кажется, я тоже покраснела и на секунду оглохла.
— Так ты понял? — голос дяди Коли пошел вверх.
— Понял, — чуть слышно выдохнул Пашка.
— Можешь идти, — дядя Коля неопределенно махнул рукой.
Пашка молча, не смотря на нас, развернулся и пошел к дому на негнущихся ногах.
Они еще немного — весело и шебутно — ходили по участку, заполняя собой до отказа тропинки между кустами черной смородины, на которой уже сизыми гроздьями карабкались ягоды, ели шарлотку с яблоками, наскоро приготовленную бабушкой. А потом веселый автобус, раскидав улицу в пыль, укатил в мутном облаке — на закат — в Москву.
На Пашкином участке было тихо. В этот вечер он не пришел ни на бревна, где мы сидели, ни к Симке на участок — жечь костер. Нам было невесело. Кажется, милиционер напугал Пашку. Он, наверное, больше так не будет.
Но как-то все это было неправильно — и неправильность эта вылезла только сейчас. Когда поздно все исправить и сыграть все по-новому. Какая-то трещинка появилась в картинке мира — и строгий понарошку дядя Коля, и униженный по правде Пашка не выходили из головы.
— Мы как трусы поступили. Ябеды, — сказал Симка однажды, когда мы с Полинкой рвали у него на участке зеленый крыжовник.
— Это ж была просто шутка, — бормотали мы. А сами знали, что и правда — трусы и ябеды.
И оттого никто не решался сказать Пашке про актера.
Бабочек он и вправду больше не убивал, только нас это уже не радовало — эка невидаль, милиционера испугаться. И было перед Пашкой очень стыдно — что заставили его краснеть и бледнеть и стоять перед нами дураком. Каждый раз, увидев его, почему-то хотелось отвести глаза, чтоб он не напоминал белыми бровями и выцветшей челкой об истории с милиционером.
Ветер отдувал занавеску на входе в террасу, в воздухе — осенью — разлился запах грибов, сырых листьев и мокрого, прелого дерева, на котором вот-вот вырастут опята.
В Яблочный Спас мы вместе рвали в кепку мелбу и белый налив, сразу брызгавший молочным соком, если надкусить. И пруды стали холодны, и ночи — бескрайни. Уже нельзя было подолгу сидеть у костра и смотреть как восходит посреди ночи утреннее солнце, и слушать как просыпаются после короткой ночи первые птицы.
Зато на голову ложился Млечный Путь, на глазах на землю фейерверком сыпались звезды, и можно было увидеть и Большую, и Малую Медведицу, и Волосы Вероники, и Лебедя — не стараясь, просто так.
Полинка жарила на веточке черный хлеб — бок у него пригорал и пах. Симка палкой тыкал в горящие дрова, и огонь брызгал вверх, к листьям яблонь, мириадами мелких искр. Сестра-Ася, как всегда, молчала, завороженно глядя в костер, а Пашка крутил в руках ржавую дверную петлю.
Ящерица появилась в мечущемся свете костра вдруг. Тоже заметалась, засеменила мелко по траве, взбежала на серую старую доску, которая годилась ей в трамплины. Замерла наверху, немигающим глазом уставясь в огонь — удивляясь, наверное, как это ее угораздило вылезти на улицу так поздно.
— Жорик, — удивленно протянула сестра-Ася.
Мы переглянулись. Никакой это, конечно, был не Жорик, но дядя Коля будто снова появился в поселке. Уши запылали, Симка сосредоточенно рассматривал носки своих ботинок, а у Полинки был такой вид, словно ей хотелось сбежать.
— А я сразу понял, что милиционер — ненастоящий, — вдруг сказал в тишину, ни к кому не обращаясь, Пашка. — Актер.
О шалашах мы мечтали давно.
Первый шалаш построили Пашка с Симкой — из сухих веток, которые нашли в лесу. Совсем маленький, с огромными прорехами. Через них жарко светило солнце и лил теплый дождь. Как-то утром взрослые ребята проходили мимо нашего шалаша и, легонько пнув ногой, развалили его. Если честно, шалаш было не жалко — такой он получился детский и ненастоящий.
Потом на поляну за нашей улицей мы притащили старые, полупрогнившие доски. Долго вкапывали их в песок, а Пашка с Полинкой прилаживали вместо крыши куски старого грязного рубероида.
— Может, помыть, — сомневалась я.
— Дождь помоет, — весело отмахивался Пашка.
Первый же дождь помыл рубероидную крышу и повалил наш хлипкий домик. Отстраивать его заново никому уже не захотелось.
В общем, все это было не то — хотелось настоящих шалашей. Как у индейцев — апачей там, или из племени сиу. Чтобы ночевать в них, прятаться от ливней и родителей. Собственный домик, в который нету хода взрослым, где нету супа с добавкой, «мыть ноги и ложиться спать быстро!», где можно сидеть и лежать прямо на полу и жечь рядом костер до умопомрачения.