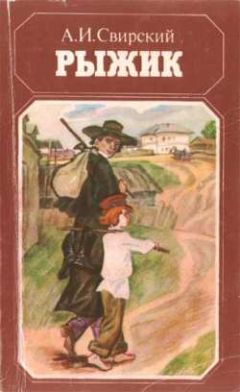— Они мне не родные… — всхлипывая, протянул Санька.
— Ну так что же, что не родные? Но они же любят тебя.
— Нет, не любят! — выкрикнул Рыжик. — Они Верку любят… Меня крестному хотят отдать… Я ничей… Я чужой…
— Полно тебе! У родных матерей дети лучше не живут… А могла ли бы еще твоя мать прокормить тебя?
— Какая мать? — уставился на Агафью Рыжик.
— Твоя.
— А где она?
Рыжик моментально перестал плакать и весь оживился. Агафья спохватилась было, что сказала лишнее, но уже было поздно. Санька осыпал ее вопросами и настойчиво требовал на них ответа. Агафья скрепя сердце в немногих словах рассказала ему, как десять лет тому назад Аксинья случайно нашла возле сарая умирающую женщину, никому не известную, как эта женщина умерла, и как она, Агафья, крохотного ребенка ее накормила грудью, и как, наконец, Зазули взяли его к себе на воспитание.
Трудно передать, какое сильное впечатление произвел рассказ Агафьи на Рыжика. Пока она говорила, он слушал ее с напряженным вниманием, а когда она кончила, он закидал ее вопросами. Ему хотелось знать: какая была его мать? какой он сам был тогда? где именно она умерла и где ее похоронили?
Удовлетворив свое любопытство, Рыжик со всех ног бросился домой. В хату он даже не заглянул, а подбежал к сараю и внимательно стал осматривать тот самый клочок земли, на котором, по его мнению, умерла его родная мать. Долго стоял он молча, потом опустился на колени и прошептал: «Мама… моя милая мама, родная мама…» И поцеловал землю. Затем он вошел в сарай, забился в самый дальний угол и беспрепятственно предался там своему горю.
Усталый, измученный и голодный, Рыжик долго плакал, вызывая в своем воображении образ родной, но — увы! — неизвестной матери, и наконец заснул рядом со своим верным другом Мойпесом.
Прошло две недели. Рыжик постепенно стал забывать о своем горе. По-прежнему стал он сходиться с приятелями, по-прежнему стал бегать по улицам и забираться в чужие сады. О своем происхождении он никому ничего не говорил, и товарищи его оставались в полном неведении. Единственно, перед кем Рыжик излил свою душу, — это перед Дуней. К ней он отправился на другой день после разговора с крестной матерью и рассказал девочке о своем несчастье.
— Теперь и я сирота… — плача говорил он, стоя перед Дуней.
Девочка смотрела на своего покровителя со страхом и удивлением. Во-первых, она никогда не видала Рыжика плачущим, а во-вторых, она никак не могла понять, почему его отец и мать ему не родные.
— Ты, Дуня, смотри никому не говори, а то мальчишки как узнают, дразнить начнут… — сказал Рыжик и ушел домой.
С тех пор Дуня его долго не видала.
А Рыжик, проплакав два дня, почувствовал себя лучше и, незаметно для самого себя, становился прежним сорванцом. Опять было начались беспрерывные купанья в речке, беганье по улицам с Мойпесом и многочисленной оравой мальчишек, опять было начались кражи фруктов из чужих садов, как вдруг в один прекрасный день с Рыжиком случилось новое несчастье.
Произошло это совершенно неожиданно. Подрался он как-то под вечер с приятелями и прибежал домой умыться. А дома Аксинья бранила Тараса за то, что он пропил последний четвертак, на который она рассчитывала купить муки для хлеба. Тарас и кум его Иван сидели на верстаке и, казалось, внимательно прислушивались к злобным причитаньям Аксиньи, стоявшей у печки и бессознательно ковырявшей ухватом земляной пол. За печкой, притаив дыхание, сидела Верочка. Аксинья горькими упреками и бранью думала облегчить свое горе и поэтому не скупилась на слова. Тарас, зная по опыту, как трудно заставить жену замолчать, когда она намерена высказаться до конца, безмолвно и покорно внимал голосу Аксиньи и только изредка кидал на кума тоскливые взгляды, как бы спрашивая его: «Слышишь, брат?», на что кум каждый раз отвечал тихим вздохом — дескать, слышу.
И вот в такую-то злую минуту явился Рыжик. На нем, что называется, лица не было. Серая рубашка была изорвана в клочки, щеки исцарапаны, а из разбитого носа сочилась кровь.
— Кто это тебя так? — воскликнула Аксинья, увидав Саньку.
Рыжик молчал и, видимо, употреблял все усилия, чтобы не расплакаться.
— А вот мы сейчас узнаем, где он был и с кем воевал, — проговорил Тарас и соскочил с верстака.
В душе Зазуля не чувствовал к мальчику никакого озлобления. Напротив, он даже обрадовался появлению Рыжика, положившему конец красноречию Аксиньи; но тем не менее Тарас счел нужным схватить аршин и состроить такую сердитую физиономию, что Верочка, выглянув из-за печки, задрожала вся от страха.
— Говори сейчас, где был? Ну?.. — грозно закричал Тарас, приблизившись к Саньке.
У того и сердце биться перестало.
— Где был, спрашиваю! — повторил Зазуля и сверкнул глазами.
— На улице… — тихо и с трудом ответил Рыжик.
— Где, говоришь ты?
— На улице.
— На улице? А нос кто тебе разбил?
— Митька да Харлампий.
— За что?
— Не знаю.
— Так-таки не знаешь?
Рыжик опустил голову и молчал.
— Иван, — вдруг обратился Тарас к куму, — будь отцом родным, яви такую милость и возьми ты у меня этого каторжника!.. Сделай из него человека, и я век тебе буду благодарен.
В голосе Зазули слышалась такая искренняя мольба, что Иван поспешил сейчас же изъявить свое согласие.
На другой день Рыжик, умытый и одетый в новую рубашку, сидел у крестного отца на низеньком круглом стульчике с кожаным сиденьем и весь отдался невеселым думам. Обеденное время давно уже прошло, а Рыжик ничего еще не ел. В хате сапожника, помимо Саньки, не было ни одной живой души. Иван привел крестника и, передав его жене со словами: «Вот тебе, Катерина, помощник!» — ушел на базар за товаром.
— Хороший мальчик, нечего сказать… Тьфу!.. — приветствовала Саньку Катерина, мельком взглянув на его исцарапанное лицо. Потом она повозилась немного у печки и также ушла.
Рыжик остался один.
С каждой минутой ему становилось грустней и обидней. От нечего делать он стал осматривать внутренность комнаты, в которой он раньше редко бывал, так как у сапожника детей не было.
Мало обрадовала мальчугана обстановка сапожной мастерской. Куча инструментов на низеньком столике, обрезки кожи, крошечное оконце и затхлый, сырой воздух удручающим образом подействовали на Рыжика, и он, недолго думая, решил бежать. Куда — этого он еще и сам не знал. Одно только было для него ясно — что домой ему идти нельзя.
«Я всем теперь чужой, а потому и делать мне здесь нечего», — решил про себя Рыжик.
Поднявшись со стульчика, на котором он сидел, Санька подошел к дверям, тихо отворил их, высунул голову и, убедившись, что Катерины нет вблизи, быстро выбежал из хаты и моментально скрылся из виду.
Рыжик бежал без оглядки. Страх придавал ему бодрость и прыть. Ему казалось, что за ним гонится весь город и что вот-вот его поймают и засекут до смерти. У Саньки от этой мысли сердце замирало в груди, и он с каждой минутой усиливал свой бег. Отбежав порядочное расстояние, беглец остановился и, убедившись, что за ним никто не гонится, вздохнул с облегчением. От быстрого бега у него закололо в боку и весь он обливался горячим потом. Рыжик постоял немного, вытер подолом рубашки лицо и тихим шагом поплелся дальше.
Голодный и усталый, Санька еле передвигал ноги. Время между тем близилось к вечеру. В воздухе повеяло прохладой. В глубокой прозрачной синеве, весело щебеча, ныряли неугомонные ласточки. Окруженное со всех сторон легкими пурпурными тучками, солнце медленно склонялось к западу. Вскоре пламя заката широким пологом покрыло небосклон.
Санька остановился в нерешительности. Налево от него тянулся длинный ряд низеньких плетней загородных садов и баштанов, впереди широкой темной лентой легла дорога за город, а направо серебрилась поверхность сонной реки. Беглецу эта местность была хорошо знакома. Здесь он делал свои опустошительные набеги на сады и баштаны, сюда он бегал купаться, и здесь он добывал для матери красную глину. Вот он и теперь стоит недалеко от той самой ямы, из которой он вместе с Дуней перед пасхой доставал глину. Но в настоящую минуту не до садов и не до глины. Влажными глазами глядит он на реку, на поверхности которой волшебными красками играет отблеск вечерней зари. Ему грустно и страшно.
Вон уж и солнце скрылось, и небо потемнело. Близок вечер.
Постепенно замирают шумные отголоски дня. Вот уж и звезды выпали из синей глубины потемневшего неба. Стало тихо. Малейший шорох, малейший звук отдаются с необыкновенной отчетливостью. Река дремлет. Изредка плеснет рыбка, сверкнет серебряной чешуей, и мягкие круги, точно стальные обручи, помчатся к берегу, бесшумно исчезая на пути. Где-то близко по воздуху ударила крыльями летучая мышь… Ко всем звукам Рыжик прислушивается с замиранием сердца, и ему не на шутку становится страшно.