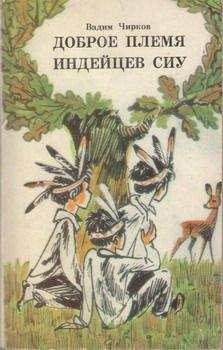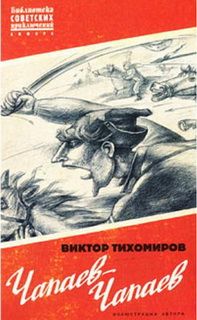А треск в Танке продолжался. Танк трещал уже повсюду.
И вдруг над солдатами показался голубой и острый осколок зеркала. Это был кусочек неба. И еще, и еще… Неба вверху становилось все больше — броня валилась наземь. И вот в Танк заглянуло солнце. Армия превратилась в толпу, толпа металась по Танку, не зная, что делать, куда спрятаться.
А Танк разваливался, словно он был не из металла, а из глины. Вот уже лежит вместо него груда металлолома. Армия, побитая и покалеченная обломками брони, лишенная своей защиты, разбежалась, боясь попасть в плен к побежденным…
Прошло еще немного времени, и ржавая груда металла сплошь заросла зеленью, а зелень покрылась круглыми белыми цветами.
Обломки Танка затянула трава, которую люди зовут вьюнком и которая становится разрыв-травой, если ей что-нибудь мешает расти…
Никита вдруг увидел беленькие воронки цветов вьюнка ярко-ярко, их было, много, они были повсюду, они были как снег. Их запах походил на мамины духи. Оттого, что цветов много, Никите стало спокойно и хорошо. Он почувствовал, что и дальше все будет хорошо, — ведь он теперь знает новую тайну, новую силу.
…А команда, скажу вам напоследок, не распалась. Она существует по сей день. Что там произошло назавтра в команде после того, как Никита вручил письмо, что он еще говорил, я не знаю.
Команда существует; она охраняет деревья в нашем дворе и на улице. Мальчишкам больно, когда они видят сломанное деревце, — так, словно сломали что-то внутри тебя.
Ведь иначе и не может быть, потому что внутри каждого из нас есть свое деревце: оно гнется под ветром и распрямляется, непокоренное, его мочит дождь, и оно подставляет под капли листья-ладони; когда приходит время, оно покрывается зеленой листвой… оно живет в нас, зеленое деревце, и благодаря ему мы так остро чувствуем осень и весну, боль и радость…
Коррида под Григориополем
Михаил Афанасьевич — он живет в 37 квартире — мальчишкой был давно, лет тридцать с лишним назад. Он слесарь-ремонтник на автобазе. Рационализатор, изобретатель. На автобазе чуть что — обращаются к нему:
— Афанасьич, давай помозгуем вместе…
И не было еще случая, чтобы он не решил технической задачи.
Потом хвалят: золотая голова!
Я с ним хорошо знаком, я расскажу, какой была эта золотая голова тридцать с лишним лет назад.
Мишка перешел в пятый класс и сказал другу Сеньке, что скоро будет знать три языка: русский, молдавский и немецкий.
А через два дня немецкий язык сам пришел к Мишке, да только не тот, который он хотел. Началась война.
Наши отступали.
Наши прошли через село не задерживаясь, скорым маршем. Сказали: ждите, мы немцев остановим, а потом погоним назад. И ушли.
Улеглась за нашими пыль — лето было жаркое, сухое — и село ненадолго затихло. И вдруг понеслось тревожное: немцы идут! Немцы… И все стали хорониться по домам.
Немцы появились в селе часов в одиннадцать дня. Самые первые были на мотоциклах. Сидящие в колясках держали наизготовку автоматы.
Мишка и Сенька сидели на чердаке Сенькиного дома и смотрели на немцев сначала в окошко, а потом, испугавшись автоматов, — в щели.
Мотоциклы подняли пыль. Пыль над дорогой казалась живой: клубы ее шевелились и вздрагивали, вдруг выбрасывая из себя еще машину, еще… Потом пошли танки.
Поначалу ребята считали машины и танки, чтобы, когда понадобится, сказать, сколько их, а потом сбились со счета. Немцев было очень много. Через село шла, наверное, целая армия.
Пыль поднималась все выше и выше, закрывая село от солнца; беспрерывно ревели моторы; слышалась немецкая речь, похожая на окрики.
Ребятам надоело сидеть на чердаке, они спустились во двор и подошли к забору, у которого уже стояли и бабка, и дед, и Сенина мама.
Лица у немцев были красные, пыльные, чужие. Немцы торопились. Иные и не смотрели на них, стоящих за забором, другие смотрели. Смотрели, показывая на них друг другу как на что-то смешное, один зачем-то погрозил кулаком, другой что-то крикнул, еще один прицелился, пугая, автоматом…
Дед застыло смотрел на немцев, словно что-то вспоминая, а когда немец пугнул автоматом, ушел в дом. У крыльца остановился и сердито позвал всех. Бабка осталась. Она долго стояла у забора, не в силах оторвать от него оцепеневших рук.
И на другой, и на третий день через село шли немецкие и румынские войска. Канонада на востоке глохла; только вечерами и ночами там вспыхивало и светилось небо.
Войска прошли, но мальчишек еще день-два не выпускали на улицу. По селу расхаживали трое полицаев — двое незнакомых, а один — и ихнего села, Митька Савранчук. Незадолго до начала войны он куда-то пропал; вернулся и сразу же стал полицаем. Всегда его звали неуважительно — Митькой, хотя ему было лет 28, прибавляли: «пустой парень». И вот он полицай.
Вышли мальчишки, стали смотреть — и то село, и не то. Вывеска на сельсовете — Рostul de jandarmi. Солдат с винтовкой. На школе вы вески никакой. Магазин — с открытой дверью пустыми полками. От всего прежнего в магазин остался только запах — муки, одеколона, мыла и селедки. По магазину шныряют мыши.
Самое главное — долго было неизвестно, что теперь можно и чего нельзя. Неизвестно даже — можно ли пойти на ставок купаться, можно ли играть в цурку. Как теперь играть в самую главную игру — в войну?
В доме у Мишки поселился офицер. Он был высокий, черный и злой. (Сколько ни пытался Михаил Афанасьевич вспомнить, рассказывая еще что-то про немца, не вспомнил. Помню, говорит, высокий, помню — такой: Михаил Афанасьевич выпячивал грудь, задирал голову, помню черный. И злой. Он сестренку чуть не убил).
Немец прогнал бабушку и Аньку с их кровати, и денщик заново ее застелил. Анька взяла да и забралась на свою кровать, да еще с козленком — кровать-то была ее, откуда маленькой знать, что теперь у немца все права. Немец увидал — козленка за загривок да об дверь — из козленка и дух вон. Аньку — за ним, об ту же дверь. Она ударилась, упала — кричит. Немец за пистолет, орет: швайне! Швайне! Бабка к немцу, — она ему как раз еду готовила, — просит, не надо, ребенок ведь… Немец рявкнул еще что-то и спрятал пистолет.
Съехал скоро. Из дому вышел — не обернулся. Высокий, злой, — немец.
Жили слухами. Слухи были один другого страшней. Из Дубоссар вывезли евреев вместе со всем скарбом; людей постреляли над ямами, а скарб поделили… Скарб давали в награду за то, что стреляли. Стреляли и полицаи. Утром после расстрела люди видели, как во дворах полицаев сушили и проветривали полученную за кровь одежду. Кто больше стрелял, тому больше и дали…
Румыны от немцев отличаются. У них можно все купить, даже жизнь. Один человек, колхозный активист, не успел уйти с нашими. Его схватили. И должны были расстрелять. А жене его кто-то посоветовал: ты вон к тому кривоносому подойди, дай ему денег. Она вечером подошла и дала кривоносому денег. И тот через час выпустил ее мужа. А наутро тех, что схватили, расстреляли…
В конце августа на доске объявлений у жандармерии появился приказ: всех детей школьного возраста записать в классы.
И опять пошли по селу слухи. (Самое страшное было то, что слухи потом оказывались не слухами, а правдой). Что в школе будут новые порядки: сечь будут, как в старые времена, ставить в наказание коленями на горох или на кукурузу (смотря что уродит), будет снова закон божий, и еще, и еще…
Кто записывал своих детей, а кто говорил, что рано, семи лет не исполнилось.
Школа открылась 15 сентября. Учеников пришло мало, кое-как их построили, перед строем выступил новый директор. Он поздравил всех с началом нового учебного года, с новыми порядками и новой — все теперь в ней будет по-другому, по-новому, — школой. Он сказал, что с этого дня они будут проходить закон божий, и познакомил с преподавателем нового предмета. Его звать, сказал он, отец Петр.
Отец Петр — небольшого роста худой человек в потрепанном черном костюме. Худой он был, наверное, из-за какой-то болезни, лицо морщинистое и недовольное, хотя он пробовал улыбаться и старался казаться приветливым. Он сказал, что на Покров откроет закрытую большевиками церковь и что школа пойдет на торжество открытия и будет петь молитву.
Первый урок был уроком закона божия. Школа собралась в одном классе.
Отец Петр сказал, что его надо называть «батюшка». Он спросил, кто знает какую молитву. Молитв не знал никто никаких. Лицо «батюшки» нервически задергалось, но он сдержался. Он только постучал некоторое время пальцами по столу и сказал:
— Так, так. Так, так… Начнем с «Отче наш». Эту молитву мы будем петь на открытии храма.
И стал говорить о боге. Видно, ему с детьми говорить еще не приходилось, он подлаживался, и тогда его рассказ о боге походил на бабушкину сказку; на сказку — если бы он не требовал верить тому, что рассказывал.