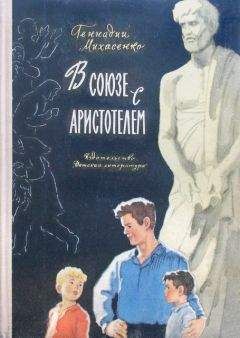— Что ж, Генк, давай лапу!
Он затряс головой.
— Не-не-не, не тут!.. К нам. Хоть на минуту!.. Я знаю, что вам не нравится у нас, что вы любите маму да и… меня…
Славка, тряхнув его за плечо, простучал:
— Да ты что, Генк! Это ты брось!
— Не-не, я знаю!
— Раз так — пошли к ним, парни! — скомандовал я.
В последнее время, точнее, с позавчерашнего утра, когда ко мне наведалась Томка и назвала меня главным среди пацанов, я заметил, что друзья ко мне действительно как-то прислушиваются, хотя я вовсе и не рвусь в атаманы, Юрка скорее в атаманы рвется. Может, он потому и нашел новых приятелей, что с нами у него атаманство не выгорает. Да и с теми — не похоже.
Тетя Тося читала при свете настольной лампы. Рядом, тоже похожая на настольную лампу, стояла высокая хрустальная ваза, накрытая вышитой салфеткой. Под салфеткой что-то бугрилось, и в комнате сильно пахло виноградом.
— А-а, мальки! — пропела тетя Тося, закрывая рукой вырез платья. — Садитесь!.. Гена, подай стулья.
Генка, успевший оказаться в тапочках, лихо подал стулья, мы их плотнее прижали к порогу, сели и застыли, как в парикмахерской.
— Мама, можно угостить ребят? — спросил Генка.
— Чем! — удивилась тетя Тося.
— Виноградом.
— А-а, ну, конечно, конечно! — воскликнула тетя Тося и задрала на вазе край салфетки, под которой ядрено блеснули крупные Ягодины. — Угощайтесь, мальчики!
Это было очень кстати, потому что жрать хотелось до чертиков, но ваза сверкала в трех-четырех шагах. И кто бы решился на эти шаги, под этим взглядом, по этому полу и в таких ботинках? Разве что Юрка, но он как удрал после концерта, так и не подходил к нам, хотя, не знаю для чего, кружил вокруг да около со своими дружками… Так что мы глотнули слюну и потупились.
— Ну, уж если вы такие скромники, то я сама вас угощу, — укоризненно-довольно проговорила тетя Тося, взяла из вазы гроздь и, отрывая от нее кисточки, стала передавать их через Генку нам. По-моему, виноградины на кисточках она считала, потому что к некоторым добавляла из вазы, а от некоторых как бы просто так отщипывала и клала себе в рот.
Мы живо слопали свои дозы — только семена прохрумкали.
— Мама, а еще можно угостить? — опять спросил Генка.
— Чем? — еще больше удивилась тетя Тося.
— Персиками… Там, в ящике.
— А-а, ну, конечно! — радостно спохватилась тетя Тося. — Я сама, — остановила она рванувшегося было Генку, поднялась и скрылась в темной спальне, откуда сквозь полураздвоенные занавески холодно позыркивало на нас трюмо.
Генка хитро подмигнул.
— Вот, мальчики… Чуть-чуть зеленоваты, но ничего. — И тетя Тося опустила нам в ладони по одному желто-красному, пушистому, тяжелому персику.
Слюна пошла — хоть корабли пускай. Но я не стал есть персик на глазах у тети Тоси, чинно, осторожно и беззвучно, мне хотелось вгрызться в него так, чтобы захлебнуться соком, хотелось почавкать и покрякать от блаженства. Поэтому я только нюхнул его, прикоснувшись носом к ворсинкам, и опустил руку.
Ребята сделали то же самое.
Генка поцарапал между светлыми бровями, как бы решаясь на что-то, и опять обратился к матери:
— Мам, я ведь завтра уезжаю, можно я на прощание угощу ребят еще?.. Грецкими орехами?
— Орехами? — Вот тут удивление тети Тоси перешло в нахмуренность. — А у нас остались они?
— Остались, мам! — счастливо подтвердил Генка.
— Господи, чего тогда спрашивать?.. Угости, конечно! — И она уткнулась в книгу.
Видя, что Генка входит в гостеприимный азарт, я понял, что надо сматываться, а то он разбазарит всю посылку, только что, видно, полученную из Алма-Аты. Головачевы часто получали оттуда посылки от родственников. Пока Генка добывал где-то под кроватью угощения, я кивнул на дверь, и мы разом поднялись. Но Генка успел. Он сунул нам по паре черепашистых орехов и вышел про водить нас. А на крыльце сыпанул в наши карманы еще по горсти изюма.
— Да ты сдурел, Генк, — сказал я. — Тебе же влетит.
— Подумаешь! — счастливо улыбаясь, прошептал он. — Я же уезжаю завтра!
— А как же Король Морг? — вспомнил Борька. — Не забудет «Песенку Герцога»?
— Нет… А если и забудет, выучим другую, — простецки ответил Генка. — Ну, ребята, бывайте!
Он пожал нам руки, и мы расстались.
Борька повернул в свой край, мы со Славкой — в свой, впиваясь, наконец, в персики и высасывая из них все среднеазиатское волшебство.
Было уже поздненько. В квартирах пылало электричество, и от окон до забора висели в воздухе прозрачные световые запруды, разбивая двор на четкие отсеки: свет — тьма, свет — тьма, и мы двигались как будто по перрону вдоль длинного ночного поезда, выискивая свой вагон и свое купе.
— Нах хаузе, ребята? — спросил неожиданно кто-то с темного крыльца, и мы увидели раскаленный уголек, описывающий дугу.
Это был дядя Федя.
Меня вдруг прошибла такая слабость от усталости и голода, только растравленного сладким, что я прислонился к стене. Видно, поняв мое состояние, дядя Федя приказал нам подняться наверх. Я еле-еле осилил четыре-пять ступенек и плюхнулся у дяди Фединых ног. Он что-то разломил со щелчком и подал нам. Это была твердая копченая колбаса. Аж со стоном я вцепился в нее.
Соседнее окно разжижало мрак, и я заметил на крыльце разостланную газету, стакан, куски хлеба, еще что-то и спросил:
— А чего вы в темноте, дядя Федя?
— Так, Володя… Я тут гульнул маленько.
— Да, вином пахнет, — принюхавшись, сказал Славка.
— Водкой, — уточнил дядя Федя. — Целую четушку ахнул, за два приема… Такой уж у меня сегодня день — аховский. — Пустив тоскливую струю дыма, дядя Федя покачал головой, и я разглядел, что он действительно какой-то не такой, неуютный, помятый: шевелюра всклочена, рубаха до ремня расстегнута, один рукав засучен до локтя, второй распущен и заглотил полкисти; но в голосе и в движениях — ни капли пьяности. — Ешьте-ешьте, растите… Мой бы Игорек был сейчас как вы, только года на два старше, вот такой, наверно. — И он ладонью показал надо мной, на сколько его Игорь был бы выше меня.
К дяди Фединому одиночеству мы привыкли так, как будто он век жил один, хотя знали, что у него была семья и что она погибла когда-то в дорожной катастрофе, но глубже не интересовались. А выходит, был сын Игорь, наш сверстник… И я внезапно подумал, что уж не с печальным ли прошлым связана сегодняшняя дяди Федина неуютность?.. Точно уловив мою мысль, он сказал:
— Дело, ребята, в том, что двадцать лет назад, еще во время войны, вот в этот день, десятого июля, у меня появилась жена… А пятнадцать лет назад, уже после войны, в ночь с десятого на одиннадцатое июля у меня появился сын Игорь… А десять лет назад, девятого июля же, исчезло все… Видите, на какие огромные пятерки разбита моя жизнь? Вот поэтому-то я сегодня и гульнул. И вы меня, надеюсь, не осудите.
— Кто, мы?.. Да что вы, дядя Федя! — почти испугался я.
— Ну, спасибо, ребята. — Он вздохнул, смял потухший окурок и задумался, облокотившись на колени.
Молчали и мы, не жуя колбасу, а посасывая ее. В словах дяди Феди дыбом встало что-то жуткое.
Он, точно опомнившись, резко выпрямился, пятерней прибил шевелюру, закатал второй рукав до локтя и, коротко усмехнувшись, проговорил:
— Мне рассказали, как Анечка гналась за Юркой с поварешкой. Смешно, конечно, но и грустно. А я вспомнил, как за мной однажды вот так же гнались, только не тетенька с поверешкой, а немец с автоматом. Вот был марафон так марафон! Призы понятно какие: первое место — жизнь, второе — смерть. Судья — пуля. Хотите?
— Конечно! — щелкнул зубами Славка, мы оживились и опять зажевали колбасу.
— А дома? — спросил дядя Федя. — Вдруг опять где разбой, и Лазорский вас пытать будет?
— Ничего, — сказал я. — Мы же у вас. Да и огороды не каждую ночь чистят.
— Ну, ладно… Значит, дело было так. Разбила как-то наша артиллерия немецкий обоз — автоколонну с боеприпасами, продуктами, кухней и прочим. А у нас с харчами не густо было. Вот я и к командиру — разрешите, мол, пошарить. Ты что, говорит, с ума сошел, кругом же немцы. Товарищ младший лейтенант, говорю, да пока они очухаются после обстрела, я десять раз вернусь. Разрешил. Ну я и отправился. Где ползком, где перебежкой, пересек нейтральную полосу, заскочил в лесок, чтобы из него до разбитых машин добраться, и только приподнялся, а из-за кустов на меня детина с автоматом: «Хэндэ хох!» — руки то есть вверх. Представляете?.. Что делать?.. Эх, думаю, пропадать, так с музыкой — прыг в кусты и бежать. Даст сейчас очередь, думаю, и все!.. Но нет, не выстрелил, за мной, гад, кинулся, живьем, значит, взять захотел. Вот тут-то, друзья мои, и началось соревнование. Я лечу, как пуля, немец — тоже, на пятки наступает. Чувствую даже, как пятерней царапает по спине, схватить хочет, а гимнастерка натянута, горстью не цапнешь. Вдруг запнулся я за что-то, упал, фашист кубарем через меня. Я вскакиваю, прыг через него — и дальше ходу. Тут траншея, я в нее и — направо. Немец следом и — налево. Здесь только я пришел в себя и вспомнил про автомат… У меня же с собой автомат был, болтался на шее. Я об него все руки поразбил, а выстрелить не сообразил. Немец хватился — нет меня, повернул — и ко мне. Только из-за угла, я его — раз! — очередью, и все, на этом кончилось наше соревнование… Вот какие игрушки были на войне. А то поварешкой — подумаешь!