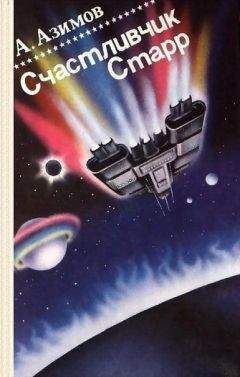Эта «обидно-снисходительная похвала» привела Эмили в такой ужас, в какой не смог бы привести ни один напечатанный типографским способом стандартный отказ. Что уж говорить о том, каким стал для нее третий час последовавшей ночи! Нет, из сострадания воздержимся от рассказа об этом… да и о том, каким был третий час многих других ночей.
«Честолюбие! — с горечью писала Эмили в своем дневнике. — Смешно! Где теперь мои честолюбивые мечты? И вообще что такое честолюбие? Чувство, что жизнь лежит перед тобой, как чистая, неисписанная белая страница, на которой ты можешь вывести свое имя крупными буквами успеха? Чувство, что у тебя достаточно желания и способностей, чтобы завоевать корону? Чувство, что грядущие годы спешат тебе навстречу, чтобы положить к твоим ногам щедрые дары? Прежде я знала, что это за чувство».
Эта запись свидетельствовала лишь о том, что Эмили все еще была очень юной. Но муки юности вполне реальны, хотя спустя годы мы узнаём, что «проходит все», и удивляемся тому, из-за каких пустяков когда-то страдали. Она пережила три мучительных недели из-за этого отказа, но затем оправилась — настолько, чтобы послать свое произведение в другое издательство. На этот раз издатель ответил ей, что мог бы рассмотреть вопрос о публикации книги, если автор внесет определенные изменения. Повесть слишком «скучная», надо сделать ее «поживее». Да и конец никуда не годится, его следует радикально изменить.
Эмили с яростью разорвала это письмо в клочки. Изуродовать ее книгу? Никогда! Само предложение издателя было оскорблением.
Когда и третий издатель прислал рукопись обратно со стандартным, отпечатанным в типографии отказом, вера Эмили в ее произведение умерла. Она убрала рукопись подальше, с глаз долой и снова с мрачным видом взялась за перо.
— Что ж, во всяком случае короткие рассказы у меня получаются неплохо. Продолжу заниматься своим делом.
Однако мысль о книге неотступно преследовала ее. Через несколько недель она достала рукопись и перечитала ее с начала и до конца — холодно, критически, отрешившись от обманчивого первого восторга и от столь же обманчивого уныния, вызванного редакторскими отказами. Книга, как и прежде, ей понравилась. Возможно, это был не совсем тот шедевр, каким Эмили считала «Продавца снов» прежде, но все равно повесть можно было с чистым сердцем назвать хорошим произведением. Что же дальше? Ни один писатель — как она слышала — неспособен правильно оценить свой собственный труд. Ах, если бы был жив мистер Карпентер! Он сказал бы ей правду. И неожиданно Эмили приняла ужасное решение. Она покажет книгу Дину! Она попросит его высказать взвешенное, беспристрастное мнение и впредь станет руководствоваться этим мнением. Она знала, это будет нелегко для нее. Ей всегда нужно было сделать усилие над собой, чтобы показать кому-либо свои рукописи — особенно Дину, который знал так много и читал все на свете. Но она должна знать правду! Дин скажет ей правду — будь то приятную или неприятную. Он всегда был невысокого мнения об ее рассказах. Но книга — это совсем другое дело. Неужели он не увидит в повести ничего стоящего? Если не увидит…
— Дин, я хочу услышать ваше искреннее мнение об этой рукописи. Пожалуйста, прочитайте ее внимательно и скажите мне, что вы о ней думаете? Я не хочу лести, не хочу неискреннего поощрения, я хочу правды, голой правды.
— Ты уверена в этом? — спросил Дин сухо. — Лишь очень немногие люди могут вынести вид голой правды. Обычно необходим лоскут-другой, чтобы сделать ее презентабельной.
— Я хочу правды, — повторила Эмили упрямо. — Эту книгу трижды… — она слегка поперхнулась, делая это признание, — отвергли редакторы. Если вы увидите в ней какие-то достоинства, я продолжу искать издателя. Если вы признаете ее никуда не годной, я ее сожгу.
Лицо Дина не выражало никаких чувств, когда он взглянул на маленький сверток, который она протянула ему, но… Так вот чем она была увлечена все лето, вот что отдаляло ее от него, поглощало ее внимание, владело ею. И единственная черная капля яда в его крови — ревнивое желание Пристов везде быть первыми — вдруг дала себя знать.
Он смотрел в ее сдержанное, милое лицо и сверкающие глаза, серовато-лиловые, как озера на рассвете, и ненавидел то, что было в свертке… но все же унес этот сверток домой и принес обратно три дня спустя. В вечернем саду его встретила Эмили, бледная и напряженная.
— Ну как? — сказала она.
Дин смотрел на нее виновато. Какой утонченной, изысканной, словно выточенной из слоновой кости, выглядела она в холодном сумраке!
— «Искренни укоризны от любящего»[14]. Я был бы плохим другом, если бы солгал тебе, Эмили.
— Значит… ничего хорошего в книге нет.
— Это очаровательная маленькая история, Эмили. Очаровательная, хрупкая и эфемерная, как облако, окрашенное закатом. Кружево фантазий, всего лишь кружево фантазий. Сюжет слишком искусственный. Сказки давно вышли из моды. А твоя повесть предъявляет слишком высокие требования к доверчивости читателя. И твои герои всего лишь марионетки. Да и как могла бы ты написать настоящую книгу? Ты еще не жила.
Эмили сжала кулачки и закусила губы. Она не решалась заговорить, опасаясь, что голос изменит ей. Ее сердце, бившееся так яростно несколько минут назад, теперь лежало в груди как свинец, тяжелое и холодное. В прошлом она чувствовала себя так лишь один раз — в тот вечер, когда Эллен Грин сказала ей, что отец умирает. Она отвернулась от Дина и пошла прочь. Он тихо захромал следом за ней и коснулся ее плеча.
— Прости меня, Звезда. Но разве не лучше знать правду? Не пытайся достать луну с неба. Тебе никогда до нее не дотянуться. Да и зачем пытаться писать? Все уже давно написано.
— Когда-нибудь, — сказала Эмили, заставляя себя говорить сдержанно, — я, возможно, буду в состоянии поблагодарить вас за искренность. Сегодня я вас ненавижу.
— Разве это справедливо? — негромко спросил Дин.
— Разумеется, несправедливо, — вспыхнула Эмили. — Но как вы можете ожидать от меня справедливости, когда вы только что убили меня? Ох, я знаю, что просила сказать мне правду… Я знаю, что это пойдет мне на пользу. Все отвратительно неприятное, как я полагаю, всегда идет нам на пользу. После того как человека убьют несколько раз, ему уже все равно. Но в первый раз он… содрогается. Уйдите, Дин. И возвращайтесь не раньше, чем через неделю. К тому времени похороны уже состоятся.
— Неужели, Звезда, ты думаешь, что я не понимаю, какое это для тебя горе? — с сочувствием спросил Дин.
— Вы не можете… понять… до конца. О, я знаю, вам жаль меня. Но мне не нужна жалость. Мне нужно лишь время, чтобы достойно себя похоронить.
Понимая, что самым разумным будет удалиться, Дин ушел. Эмили следила, как его фигура исчезает из вида. Затем она взяла свою немного потрепанную, опозоренную рукопись, которую он положил на каменную скамью, поднялась в свою комнату и несколько минут постояла у окна в угасающем свете дня, перебирая исписанные листы. То одна, то другая фраза попадалась ей на глаза. Остроумные, пикантные, красивые. Нет-нет, это всего лишь глупые иллюзии автора, по-матерински нежно относящегося к своему созданию. Не было ничего стоящего в ее книге. Так сказал Дин. А ее персонажи… Как она любила их! Какими реальными они казались ей! Было страшно даже подумать о том, чтобы уничтожить их. Но ведь они не были настоящими людьми. Они были всего лишь «марионетками». А марионетки не страдают, когда их бросают в огонь. Эмили подняла взгляд на звездное небо осенней ночи. Вега из созвездия Лиры посылала ей свои яркие голубоватые лучи. Ох, до чего отвратительна, изнурительная и жестока жизнь!
Эмили прошла в другой конец комнаты, положила «Продавца снов» за решетку своего маленького камина, опустилась на колени, зажгла спичку и недрогнувшей рукой поднесла ее к бумаге. Смертоносное пламя жадно набросилось на разрозненные листы. Эмили прижала руки к сердцу и широко раскрытыми глазами следила за огнем, вспоминая тот день, когда она сожгла свою старую «амбарную книгу», лишь бы не позволить тете Элизабет прочесть, что там было написано. Через несколько мгновений рукопись стала множеством извивающихся языков пламени, а еще через несколько секунд уже была кучей сморщенного пепла, и лишь кое-где призрачное слово проступало белым на черном обрывке, словно обращенный к Эмили упрек.
Ее охватило раскаяние. Ох, зачем она это сделала? Зачем она сожгла свою книгу? Пусть даже книга никуда не годилась. Все равно, это было ее произведение. Было грешно сжечь его. Она уничтожила то, что было для нее бесценно. Что в глубокой древности чувствовали матери, которые бросали своих детей в огонь, принося их в жертву Молоху… Что чувствовали эти матери, когда жертвенный порыв и возбуждение проходили? Эмили казалось, что теперь она это знает.