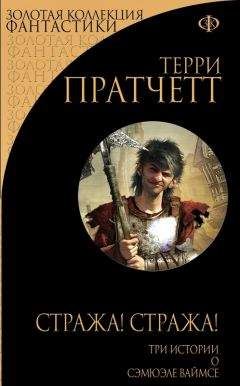– Вот она глупость! Вот! Я говорила! Я знала, что этот сумасшедший мальчишка что-то задумал!.. – вся красная и дрожащая от волнения, выкрикнула Женя, едва признание сорвалось с языка Сережи. – Только тебя там не хватало, – продолжала она. Да еще Степки да Бори. И соску, и нагрудник, и няню – все с собой возьмите, герои!..
Но вместо иронии, которую Женя хотела вложить в свои слова, в них прозвучали слезы, которые девочка торопливо смахивала с ресниц.
Ее вспышка дала всем прочим членам семьи возможность несколько оправиться и прийти в себя.
– Сережа, ты просишь невозможного… – начала было Анна Николаевна, но сын перебил ее.
– Невозможного?.. Но почему?.. Почему все находили это возможным, хорошим, даже нужным, когда так решил Юрий? И почему это глупо и невозможно, когда говорю я? – горячился Сергей.
– Не забывай, что Юрий на целых четыре года старше тебя, – начала свое возражение Троянова. – Подумай, Сережа, ведь тебе всего семнадцать лет, ты же, в сущности, еще ребенок, мальчик. Тебе надо серьезно заниматься с Николаем Михайловичем, готовиться в университет…
– А Юрий не студент разве? И все-таки он бросил все и пошел… – снова перебил Сергей.
– Наконец, Сережа, подумай же о нас, обо мне, о сестрах… Отец уезжает, с кем мы останемся? Что мы будем чувствовать, как страдать? Как волноваться? Не ужели мы ничего для тебя не составляем?.. – теперь уже дрогнул и оборвался голос Анны Николаевны.
– Мамочка, милая, Господь с тобой, что ты говоришь!.. – так весь и рванулся к ней Сережа.
– Ведь и у Юрия есть мать, больная мать, и у него сестра, у них даже вовсе нет отца… И все-таки… – через минуту, снова возвращаясь к поглотившей его мысли, продолжал юноша.
– Да, Сергей, ты правильно заметил: у них нет отца. Здесь и кроется вся существенная разница между его и твоим положением, – раздался твердый, спокойный голос Троянова, молчавшего до сих пор. – Положение Юрия гораздо сложнее, ответственнее твоего. Он в семье единственный мужчина, потому на нем сосредоточены обязанности и сына, и заместителя отца. Он, как сын героя Муратова, не мог не рвануться на зов родины в такую тяжелую минуту. Будь жив отец, этот долг выполнил бы он сам. С другой стороны, любовь к сестре и матери приковывала его к семье. Но где он был нужнее? Где необходимее? В семье или на войне? Он был нужнее там, и он пошел. Но у тебя есть отец, есть человек, который откликнется на зов родины, а твоя обязанность, твой долг, долг сына, остаться около матери, возле сестер, заменить меня, беречь, холить их, чтобы я там мог быть спокоен, зная, что они под надежной защитой, под охраной моего сына.
Убедительный тон отца действовал на Сергея. Своей последней фразой, выказанным ему, как взрослому, доверием, он польстил самолюбию юноши, но горячее стремление пойти на войну, жажда подвига, жертвы, быть может, славы так завладели им, так живы были в его сердце, что мысль о крушении этих надежд была Сереже не под силу.
– Все, все идут, всем можно, только меня как маленького… как девчонку… держат!.. – запальчиво воскликнул он.
И в доказательство того, что он мужчина и взрослый, Сергей, не выдержав, совсем по-детски всхлипывая, горько заплакал.
– Слушай, Сергей, – прощаясь на другой день с сыном, начал Троянов. – Вчера при матери я не хотел говорить: ты был так взволнован, что мог в запальчивости сказать лишнее и задеть ее материнское чувство. Подумал ли ты о том, что теперь у нее на сердце? Ведь она всегда молчит, никогда не жалуется, ровна и спокойна на вид – вот и Китти такая же, но вдумался ли ты, что она переживает? Ежеминутно дрожит за Юрия, за Китти, за ее тревоги. А если шальная пуля убьет, искалечит его? Ведь мы с тобой не дети, мы взрослые и мужчины, надо же иметь храбрость смело смотреть в глаза обстоятельствам. Ведь это война. Один миг – и жизни, сотен, тысяч жизней не станет. И вот неустанно думать: не сейчас ли, не в эту ли секунду наступает или настал уже этот страшный миг? Теперь ухожу я… Что переживает она?.. И вдруг еще ты… Это было бы жестоко и бессмысленно. Крайности пока нет. Но если, спаси и сохрани Господь, настала бы такая страшная пора, что всякий без исключения должен был бы взять оружие и встать на защиту страны, – тогда бери и ступай, я не удержу сына в такую минуту. Помни! Но пока еще рано…
Совсем затихло Благодатное. От Троянова и с пути, и по прибытии на место приходили сравнительно частые вести. Сам генерал был, правда, жив и здоров, но какие печальные новости о ходе войны приносили его письма!
Один за другим были Наполеоном заняты Полоцк, Минск, Витебск и Могилев. Русские армии уже отступили к Смоленску.
По мере приближения наших войск к Москве все чаще, все подробнее становились вести, достигавшие Благодатного. Долетали имена героев, доходили фамилии убитых и раненых. Известия о смерти, связанные с близкими, дорогими именами, проникали в помещичьи хоромы, в дворовые флигели, в крестьянские избы. Теперь охватившее страну бедствие не представлялось, как вначале, чем-то хотя и страшным, но туманным, бесформенным. Теперь при известиях о сражениях и их жертвах рисовались яркие картины пролитой крови, фигуры дорогих, знакомых людей, распростертых на земле, убитых и раненых. Как живые, вставали они перед глазами рыдающих матерей, жен, ребятишек, братьев, отцов и дедов. И жгучая ненависть загоралась в сердцах, жажда мести и подвига.
Пасмурный и грустный, ходил Сережа с момента отъезда отца. Женя не спускала с него тревожного, любящего взгляда. Как хорошо она понимала, что происходило у него на душе. Разве могло быть иначе? Разве и тогда вечером, когда Сережа заговорил с отцом и матерью об отъезде, разве не понимала, бессознательно не чувствовала она того, что творилось в нем? Сразиться, перекрошить этих ненавистных, проклятых французов, запугать, выгнать их – о, какое это счастье! Еще бы Сережа не рвался туда!..
«Но нет, нет, это невозможно, – дальше несется мысль девочки. – Вздор!.. Глупости!.. Сережа?.. А если его ранят? Только ранят, даже немножко?.. А вдруг убьют?.. Ни за что, ни за что! Только не его, только не Сережу!»
Женя покорно сносит проявления его удрученного настроения, резкие слова, порой окрики.
Пусть, пусть! Ведь ему, бедному, так тяжело! Она все-все вытерпит, все сделает для Сережи, только… только не поможет ему в том главном, что, единственное, может утешить его. О, это нет! Если бы она увидела, если бы ей только показалось, что Сережа хочет потихоньку убежать из дому, она первая всем бы сказала, всех бы на ноги поставила.
Эта мысль сильно тревожит девочку. Ночью она иногда просыпается, охваченная ужасом: вдруг в эту самую минуту Сережа собирается бежать? Она чутко прислушивается, не скрипнет ли где дверь, не стукнет ли окно, не повернется ли ключ в замке. Но все тихо в большом дремлющем доме, только ее собственное сердце стучит так громко и порывисто…
Лишь на раскинутой перед домом зеленой лужайке да во дворе и в некоторых излюбленных уголках большого сада еще царит временами оживление, звучат бойкие голоса.
Не унывает Боря со своим верноподданным, а порой и командиром Степкой. Игра в войну ведется по-прежнему. Защищают то Витебск, то Полоцк; один раз усердно отбивали от неприятеля даже Киев, а другой раз Петербург. Мудрено ли, что кровопролитие было громадное? Сын птичницы Митька, например, не досчитался трех зубов, приступом выбитых «Детолем». Правда, зубы и так уже пошатывались, но все еще могли служить службу, особенно в такое время, как сейчас, когда в огороде поспели яблоки, репа и горох. Но неумолимый враг принес их в жертву славе русского оружия.
Боря-«Багратион», со свойственной ему горячностью, сгрудившись с Васюком-«Вдаву», ударил в «центр» неприятеля, отчего из носа французского маршала кровь брызнула фонтаном на руку растерявшегося русского главнокомандующего.
Но не одно это занимало Бориса и Степку. С некоторых пор они вполголоса вели какие-то таинственные беседы, часто забирались в разные сарайчики и стоявшие без употребления кладовки, шныряли мимо буфетной, кухни и официантской, неизменно, как ошпаренные, отскакивая при чьем-либо приближении, после чего тотчас же старались принять развязный, непринужденный вид.
Однажды, зайдя в детскую, Женя застала Борю мастерящим что-то пальцем, просунутым сквозь окно большого деревянного дома-игрушки, последнее время пользовавшегося его особым расположением.
Первым побуждением мальчика было вытащить палец, но, подумав секунду, он, весело глядя в лицо сестре, продолжал двигать рукой, производя шум внутри дома.
– Слышишь? – таинственно произнес он.
– Слышу, но ничего не понимаю, – ответила Женя.
– А хочешь знать? Очень?
– Ну, хочу.
– Только никому не скажешь? Побожись!
– Не скажу, ей-Богу не скажу.
С еще более таинственным видом Борис приподнял крышку дома и торжествующе ткнул туда пальцем.
– Видишь сколько?