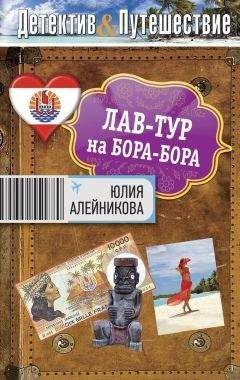Гришаня будто и не услышал Яшку, даже не обернулся.
— Ну так прибегай, Лень. И ушел.
Во дворе некоторое время стояла тишина. Потом Заковряжиха, будто очнувшись, дала Леньке подзатыльник.
— У, идол лупоглазый!
А Семен Лукич качнул головой и процедил ненавистно:
— Вот ить живет энтот старый хрыч — Фома Тихонович! Богатство так и липнет к лапам загребущим. Штоба ого мельница дотла сгорела у пса толстозадого...
С этого дня у Леньки с Гришаней завязалась дружба. Вечером он досыта накатался с ним на рысаке, потом поел. Славно поел, как ни разу в жизни: и щей с мясом, и яишню, и киселя отпробовал.
На другой день Ленька снова был у Барыбиных — ездил с Гришаней на луга, смотреть травы. На третий день, на четвертый. Заковряжиха хоть и злилась, но отпускала Леньку — боялась ненароком обидеть Барыбиных да пустить о себе по селу худую славу.
Семен Лукич тоже подобрел к Леньке.
— Ишь ты,— глядел он на него удивленно,— чего это Гришка нашел в тебе? Глядеть не на что — суслик ободранный! Ну да ладно — это хорошо, что тебя привечают Барыбины. Авось и нам от них какая-никакая польза выпадет. А то было взялся дружбу водить с голодранцем Митькой Шумиловым. Пасынок антихристов. Не зря метка на его воротах объявилась. Так ему, подлюке, и надо.
Но Ленька не забывал Шумиловых: то с Варькой посидит, то к Митьке забежит поговорить. Но к Барыбиным привязывался все сильнее и сильнее.
Гришанин отец, Фома Тихонович, оказался добрым и славным мужиком, никак не похожим на богатея. Всегда встречал Леньку приветливо, шутил, разговаривал, расспрашивал его обо всем: откуда приехал, про отца с матерью, про девчонок — как они живут, давно ли их видел. Когда Ленька сказал, что с весны еще не бывал у них, Фома Тихонович даже расстроился:
— Как же это ты, милок, не удосужился, а? Нехорошо. Прямо-таки дрянно.
Ленька покраснел, но оправдываться не стал: не будет же он рассказывать, что Заковряжиха не только в Сосновку не разрешает, готова бы и со двора его никуда не выпускать. А он что? Он каждую неделю бегал бы к ним — сам истосковался по девчонкам. Даже во сне их стал видеть.
— Ладно,— сказал Фома Тихонович, ласково хлопнув Леньку по спине,— будет случай, заверну в Сосновку, попроведаю твоих сестренок да поклон им передам от тебя.
Понравилась Леньке и Гришанина мать, тихая, добрая. И сестра его Лиза, красивая, высокая,— уже невеста. В осень Фома Тихонович готовился сыграть свадьбу.
Был у Фомы Тихоновича еще и старший сын — Прокофий, но он давно где-то сгинул на войне. Ни слуху от него, ни духу. Никто не знает: убит ли он, умер ли в лазаретах или попал в плен. В доме Барыбиных о нем никто и никогда не говорит. Оно и понятно — тяжело. Говорить как о мертвом — вдруг живой, а как о живом будто тоже не получается. Вот и не вспоминают о нем вслух. А в общем Леньке здесь, в просторной и красивой барыбинской усадьбе, было легко и хорошо. Особенно после того, как однажды Гришанина мать вдруг вынесла из дома сверток и, подойдя к Леньке, когда он уже собирался уходить, отдала ему.
— Вот, Ленюшка, тебе. Носи на здоровье.
Ленька развернул сверток и ахнул: там были еще почти новые рубахи — зеленая и розовая, штаны и пиджачок без единой заплаты.
— Носи... Гришине сберегла...
— Спасибо, теть... Век не забуду...
И выскочил на улицу. Думал: вот люди! Нет, если и будет Ленька мстить богатеям, то, конечно, не таким, как Барыбины. Это хорошие богатей, добрые. А Гришаня и подавно. Не то что Яшка или Тимоха, или тот же Елбан со всеми своими приятелями.
Завтра утром Ленька решил во что бы то ни стало вырваться в Сосновку, проведать девчонок. Пусть Заковряжиха бесится и лютует — авось не прибьет до смерти. А он, Ленька, уж так истосковался о них, что и сказать нельзя.
И горько и радостно вспомнилось, как в первый раз побывал в Сосновке. Когда искал по селу дом — боялся, вдруг девчонки не признают его, ведь времени-то сколько прошло. Узнали. Обрадовались. Бросились обе на шею. Катька смеется: «Няня, няня!» А Нюра плачет: «Братка, почему с нами не живешь? Давай вместе, а?»
Завтра он снова увидит их. Даже сердце от радости сжимается. Здоровы ли они только?
Ленька собрал девчонкам кой-какие гостинцы: хлебца белого, две шанежки, пирожков несколько (Варька Шумилова угостила), яиц и кусок сала, которые попросту стащил у Заковряжихи. Конечно, была бы она хоть малость подобрее, может и сама дала чего-нибудь для девчонок. А так... У нее, пожалуй, и воды со двора прохожему не вынесешь — не даст.
Все припасы свои Ленька увязал в тряпку и спрятал у себя на сеннике, чтобы Яшка, пронырливый, как собака, не нашел их вдруг.
И вот утром, чуть свет, Ленька уже шагал по дороге к бору с узелком в руке, пытаясь не думать о том, что ждет его по возвращении из Сосновки. Он вошел в лес. Тут было совсем темно и непривычно тихо. Леньку даже охватила какая-то неясная робость. Он сбавил шаг, настороженно оглядываясь и прислушиваясь к глухой лесной тишине.
Но вот лес стал помаленьку редеть, над головой появлялось все больше и больше голубых просветов. И наконец лес распахнулся и выпустил Леньку в просторную зеленую степь. За дальним колком уже подымалось солнце. Его лучи ударили в стену бора, рассыпались по полям. Поля сразу ожили, засверкали золочеными росами. Ленька постоял малость, любуясь, засмеялся от удовольствия и бодро пошагал вперед. Вот и знакомая развилка. Здесь он когда-то, едва живой от голодухи, разъехался с сестрами в разные села. Немало времени уже прошло с того дня, а он помнит все так ярко, словно это было вчера. И никогда, наверное, не забудет...
Дорога на Сосновку была легкой и веселой. Она юрко бежала с холмика на холмик меж хлебных полей, среди круглых, будто островки, березовых колков.
Впереди показался пологий высокий холм. Ленька знал уже: за ним Сосновка. Дорога, сделав две-три плавные петли, легко взбежала на вершину меж двух высоких берез. Глянул Ленька с холма вниз и ахнул от восторга: вся Сосновка лежала перед ним, пестрая от разноцветных крыш, с зелеными пятнами деревьев, с прямой и единственной улицей, уходящей к темно-синей полосе бесконечного бора.
Ленька, будто не он только что прошагал восемнадцать верст, бегом помчался с холма, захлебываясь ветром.
Первой увидела его Нюра. Она играла у ограды, сосредоточенно ковыряя щепкой землю. Подняла случайно голову, вскрикнула, словно в испуге. Потом распрямилась стремительно, кинула щепку и, раскинув вымазанные землей руки, бросилась навстречу:
— Братка! Братка пришел! Братушка!..
За ней уже бежала Катька, переваливаясь с боку на бок, словно уточка.
— Няня, няня!
Ленька на ходу подхватил Катьку, притиснул к себе упругонькое тельце, жадно вдохнул знакомый и родной до боли запах ее мягких волос — запах солнца, пыли и полыни. Нюра, охватив его руками по поясу, тесно прильнула к боку, будто боясь, что Ленька сейчас уйдет, и жалась, жалась к нему...
Так и стояли они, притихшие, счастливые своим маленьким горьким счастьем.
Выбежали хозяйские дети — двое мальчишек и девчонка, мал мала меньше, встали в сторонке и с любопытством уставились на Леньку. Вышла хозяйка, потом соседка из избы напротив...
Поднял Ленька влажные глаза, увидел женщин, застеснялся, стал торопливо отрывать от себя руки девчонок.
— Ну ладно, ладно... Довольно, чего уж там... Нюра... Катя... Айда-ка лучше поглядим, что я принес вам...
Руки сразу разжались, и девчонки в один голос заверещали:
— Покажь, покажь, а? — и потащили его к калитке.
За ними гуськом двинулись и те трое, замурзанные, с облупленными носами, жадно поглядывая на узелок: что там?
У калитки Ленька остановился, стащил с головы картуз, низко поклонился хозяйке:
— Добрый день вам, теть...
Она тоже поклонилась ему, улыбнулась и распахнула калитку.
— День добрый, соколик, заходи.
Он не пошел в избу, а присел на толстый сутунок, что лежал возле сеней. Мелюзга сразу облепила его тесным полукружьем, напряженно, не мигая, глядела, как его пальцы развязывают узелок, медленно, неторопливо. Распутывает Ленька узел, а сам хитро поглядывает на лица детишек. А на них такое нетерпение, такое страдание, будто ждут какого-то чуда.
Ах как понимает их Ленька, как знакомо ему это нетерпение! Помнится, сколько раз вот так же стоял он перед тятькой или маманей, когда они приезжали из гостей или с ярмарки. Ничто и никогда не волновало его так, как эти небольшие и таинственные узелки, которые почему-то всегда очень и очень медленно развязывались... Да, теперь Леньке, пожалуй, никогда больше не стоять в нетерпеливом ожидании и не получать таких дорогих и желанных гостинцев...
Наконец общий восхищенный и облегченный возглас «Ой!» возвестил, что узелок развязан и тряпица раскрыта. Ленька доволен. Он берет по яйцу и вручает каждому по очереди. Ребятишки, крепко зажав их в ладошках, и не думают есть, ждут новых гостинцев. Ленька не спеша делит хлеб, пирожки, разламывает шаньги — и тоже чтобы всем досталось поровну. А сало отдает старшему, Петрухе, годов семи: