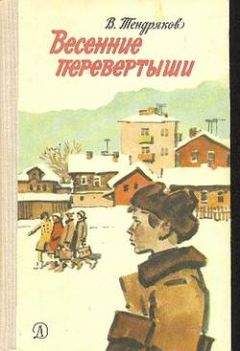У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блестели слезы, блестели и не проливались, а отец Миньки съежился, втянул голову в плечи, на макушке, словно выстреленный, несолидный хохолок.
— Я раб. Я не могу взбунтоваться, — сказал он.
Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущенным лбом под тяжелыми косами, смотрела куда–то далеко сквозь непролитые слезы.
— Люся, поедем отсюда… в город. Я снова поступлю в газету.
Она не шевельнулась.
— Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи…
— Нас никто не ждет в городе. Где нам там жить? И твои обозрения не прокормят… Если ехать, то без тебя, мне хватит одного груза — сына.
Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всем поселке только у одного Левки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившиеся слезы, а у Миньки… не видно. Разговоры о счастье.
На круглом торте оплывали тонкие свечи — тринадцать свечей, тринадцать лет.
— Он стихи, Дюшка, пишет. Он все знаменитым стать хочет.
— Минька, он очень несчастный.
— А мамка не несчастная, Дюшка?
— Он ее любит, она его — нет. Кто несчастнее?
Вечерний воздух на улице Жан–Поля Марата был пронизан блуждающими запахами — земляной сыростью, горечью новорожденных листьев, сладковатой древесной истомой выкаченных из реки бревен. И от самой реки через весь поселок мощно тянуло пресной прохладой. Но всего сильней пахнул одинокий молодой тополек, стоящий на углу Минькиного дома. Неприметный днем, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух, наливаться бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому запевале.
— Значит, мамка плохая, Дюшка?
— А разве я говорил, что она плохая?
— Не любит же, виновата.
— А можно любить, если не любится, Минька? Это все равно — пей воду, когда не пьется.
— Так мамка хорошая, Дюшка?
— Да.
— И папка хороший?
— Да.
— Как же так, Дюшка: мамка хорошая, папка хороший, а дома плохо, хоть беги?
Дюшка растерялся: случается ли, что хорошие люди творят плохое? Было бы куда проще найти виновника.
Выскочивший провожать Минька убито топтался перед Дюшкой. Блуждали в воздухе беспокойные запахи. Неказистый, смиренный тополек — главный бунтарь средь беспокойных.
«Одному ученому нужно было узнать, сколько в пруду рыб. Для этого он забросил сеть и поймал тридцать штук. Каждую рыбу он окольцевал и выпустил обратно. На другой день он снова забросил сеть и вытащил сорок рыб, на двух из которых оказались кольца. И ученый вычислил, сколько приблизительно рыб в пруду. Как он это сделал?»
Вася–в–кубе время от времени проводил «урок одной задачки» вместо контрольной. В такие дни он был строг, немногословен, важен — он ждал победителя. И уж этого победителя Вася–в–кубе заносил в отдельную книгу, хвалил где только мог: «Проницательного ума. Незаурядных способностей. Надежда школы».
Дюшка же победителем стать не мечтал — выше тройки никогда не хватал по математике. Но в последнее время он научился решать задачки. Каждая задача — нераскрытая тайна. Тайна и здесь…
Гуляют в пруду рыбы. Да разве можно их пересчитать? Руками не перещупаешь — мол, раз, два, три, четыре… Ин–те–рес–но!
Дюшка по привычке записал: «Сколько рыб в пруду = X». Икс тайны не раскрывал, и Дюшка сразу забыл его.
С первого же раза ученый вытащил тридцать рыбин. Ничего улов, значит, водится в пруду рыбка.
Тридцать рыб гуляют в пруду с кольцами на хвостах. Две из них — только две! — вытащил ученый среди сорока. Есть в пруду рыбка, есть. Маловато вытащено с кольцами. Во сколько же раз больше неокольцованных? Сорок, а среди них всего две. Да ясно же — в двадцать раз!.. Ха! И это называется трудная задача! Тридцать окольцованных помножить… Но икс? При чем тут он? Куда бы его приспособить?
Все это как–то очень быстро пронеслось в Дюшкиной голове — за каких–нибудь пять минут. Вася–в–кубе не успел еще стряхнуть с себя мел, не успел опуститься на стул.
— Чего тебе, Тягунов? — кисленько спросил он, увидев Дюшку, тянувшего руку.
Конечно же, он подумал, что Тягунову приспичило выйти из класса — самое время подальше от задачи.
— Я решил.
Грозные брови Васи–в–кубе поползли к лысине, а класс притих.
— Покажи! — Приказ недобрым голосом.
Показывать Дюшке было нечего, в тетради после условия задачи стояла только одна запись: «Сколько рыб в ПРУДУ = Х». И непонятно, к чему этот икс нужен?
— Я в уме решил, Василий Васильевич.
— Час от часу не легче, — проворчал Вася–в–кубе и снова кисленьким голосом: — Что ж, Федор Тягунов, выйди к доске, послушаем твое решение.
Дюшка сам оробел от своей дерзости, однако вышел, встал, как положено, лицом к классу и рассказал:
— Тридцать рыбин в кольцах. Две попались среди сорока. Значит, неокольцованных в двадцать раз больше. Тридцать на двадцать — всего шестьсот.
И все, умолк, страдая, что рассказ его занял так мало времени.
Класс недоверчиво молчал. Вася–в–кубе возносил к лысине брови и разглядывал Дюшку.
— Да!.. — наконец подал он голос. — Да!.. Все правильно. Просто и ясно. У тебя ясный ум, Тягунов! Ты лодырь, Тягунов! Ты два года водил меня за нос, прятал за ленью свои способности. Незаурядные способности! — Вася–в–кубе повернулся к молчащему классу. — Вот как надо мыслить, друзья. Молниеносно! Вламываться сразу в самую суть.
И громовым басом, почти угрожающе Вася–в–кубе принялся расхваливать Дюшку. Дюшка стоял у доски и от непривычки чувствовал себя очень плохо — хоть провались сквозь пол от этих похвал.
Наконец Вася–в–кубе торжественно умолк, торжественно вынул из нагрудного кармана самописку, торжественно отвинтил колпачок, торжественно склонился над журналом… Сомневаться не приходилось — пятерка.
— Голубчик, возьми щетку, приведи себя в порядок.
…Слух о Дюшкином ученом подвиге быстро разнесся по всей школе: шутка ли, за пять минут — в уме! — задачу «на победителя».
На перемене к нему подошел Левка Гайзер:
— Старик, ты быстро научился плавать.
Как равный равному, уже не называя Дюшку тараканом.
И это слышали все, кто был в эту минуту в коридоре. И случайно тут стояла Римка Братенева. Стояла, слышала, смотрела на Дюшку. Уважительно.
Он станет великим математиком и прославит школу, поселок Куделино, отца, мать, Миньку, с которым дружит, бабушку Климовну, которая его вынянчила.
Он вместе с Левкой откроет, что Вселенная бесконечна. И хотя он не знает, почему от бесконечности должны вновь рождаться уже умершие люди, все равно откроет. Левка снова появится на свет, он, Дюшка, тоже, и Минька, и отец с матерью — все, все узнают, что никто не умирает насовсем.
Он еще знает то, о чем не подозревает даже Левка: Римка Братенева когда–то была женой Пушкина.
Он умеет видеть, чего никто не видит.
Он разглядел, что отец Миньки вовсе не такой уж плохой человек.
Он пойдет к Минькиной матери и скажет: полюби мужа — он станет счастливым.
И Минька тоже…
А все в поселке удивятся: какой хороший человек Дюшка Тягунов.
И какой умный!
И Римка первая подойдет к нему: давай, Дюшка, дружить.
А он ее тогда спросит: «Ты знаешь, кто ты?» — «Нет». — «Наталья Гончарова, жена Пушкина, первейшая красавица — «чистейшей прелести чистейший образец».
Дюшка был счастлив и не подозревал, что счастье капризно.
После уроков он одним из первых выскочил с портфелем из школы. В портфеле по–прежнему лежал кирпич. Существует на белом свете Санька Ераха, и с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться.
Миньке он решительно сказал:
— Иди один, у меня дела.
Он хотел видеть Римку. Почему–то он надеялся: сегодня она пойдет домой одна, без девчонок. И он попадется ей на глаза. Конечно, нечаянно. И она заговорит, и они вместе пойдут домой. И кто знает, быть может, он уже сегодня, сейчас, через несколько минут, скажет: «Чистейшей прелести чистейший образец». Вчера о таком и мечтать не смел. Вчера он был обычным мальчишкой, каких много в школе.
Он долго кружил на углу улиц Жан–Поля Марата и Советской, пока не увидел ее.
Она шла без девчонок, но не одна. Шла тихо, нога за ногу, смотрела в землю, тонкая, скованная, знакомая, хоть задохнись. И рядом с ней — поролоновая курточка нараспашку — вышагивал Левка Гайзер. И тоже нога за ногу, не спеша, вдумчиво. Он что–то говорил ей, она слушала и клонила голову вниз, и было видно издалека — не хочет быстрей идти, нравится. Знакомая и чужая.
Минуту назад он верил, что прославит школу, поселок, отца, мать, старую Климовну, даже Миньку. Сейчас он представил себя со стороны — так, как если б Римка вдруг подняла голову и увидела его. Посреди улицы мальчишка в штанах с пузырями на коленях, с толстым портфелем в руке. Он носит с собой кирпич, потому что боится Саньки Ерахи. Ему постоянно чудится черт знает что, черт те о чем мечтает. Он случайно решил задачу и зазнался. Он не умеет крутить на турнике «солнце», у него нет накачанных мускулов, нет красивой куртки.