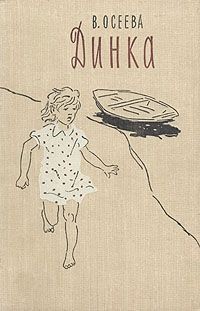Динка внимательно оглядывает двор, она боится как-нибудь нечаянно провалиться в пещеры, о которых говорила Алина. Но все люди идут и идут… Никто не проваливается, а неподалеку от церкви под деревянным навесом стоят длинные столы и такие же длинные скамейки. От столов подымается душистый пар, верующие едят горячий постный борщ… Динка сглатывает набежавшую слюну и нерешительно направляется к скамье. Прямо перед ней вдруг возникает длинная фигура монаха; черная ряса его стянута широким поясом, На голове монашеский клобук. Монах, ловко балансируя между верующими, ставит на стол целое блюдо румяных, горячих пирогов… Тихое умиление сходит на душу Динки.
«Вот как здесь угощают! И борщом и пирогами!» — растроганно думает она и с полным правом голодного, нуждающегося в пище человека берет с блюда пирог, залезает за стол и, придвинув к себе миску борща, уписывает его за обе щеки…
Углубившись в это занятие, она не видит, как монах обходит сидящих за столом с кружкой, в которую каждый бросает свою лепту за съеденный обед.
Монах останавливается перед Динкой и ждет… Динка испуганно отодвигается от него и, положив ложку, молча мотает головой. Но монах неотступно стоит перед ней и ждет… По длинному, унылому лицу его землистого цвета ползут крупные капли пота, из-под монашеского клобука свисают на плечи грязно-желтые волосы.
— У меня нет денег… — с ужасом глядя на него, тихо говорит Динка.
Монах долго смотрит на нее тусклым взглядом бесцветных маленьких глаз и, словно нехотя, побренчав кружкой, отходит, а за столом раздаются возмущенные голоса:
— Что же ты, девочка, за чистый стол села? Шла бы вон к убогеньким, там и даром кормят… Али так кто копеечку на пирожок подаст…
— А это, видать, чья-то девочка… не из простых…
Седая женщина в черной шляпке с вуалью укоризненно качает головой:
— Нехорошо, дитя мое, обманывать бога.
— Но ведь бог знал, что я хочу есть и что у меня нет денег, — дрожащим голосом оправдывается Динка. — Я думала, что бог кормит всех бесплатно…
— Бог-то кормит, милушка; вон сколько калечных да убогеньких сидит, подаяниями добрых людей да милостью божьей питаются. Бог-то кормит, а только людям тоже совесть надо иметь, а ты с этаких лет да в такой одеже…
Динка не в силах больше слушать, что ей говорят верующие; с трудом вылезает она из-за стола, уши ее горят, ноги отяжелели… «Только бы уйти, только бы скорей уйти», — думает она и почти бежит к воротам, а колокольный звон бьет ее по голове, гонит на улицу… Динка уже не видит, что над ее головой цветут каштаны, что высокие бело-розовые цветы их стоят так стройно и прямо, как перевитая золотом свеча у нарядной невесты, ей уже не кажется, что окутанный воздушным облаком Киев заневестился… Динка не чувствует, как из палисадников, перегнувшись ветками через забор, сирень дружески хватает ее за рукав… Ничего этого не видит больше Динка. В ушах ее бренчит кружка монаха, в глазах неотступно стоит его длинная черная фигура и грязно-желтые космы, свисающие вдоль унылого лица. Домой! Домой!..
Но у ворот дома ее задерживает Хохолок.
— Я уже выдержал два экзамена… Хочешь, я повезу тебя опять за цветами?
— Нет, — качает головой Динка. — Я не хочу… Ведь тогда это были первые цветы, а сейчас их много, и мне не надо.
Хохолок с сожалением смотрит ей вслед… В классе у него много товарищей, но дома он всегда один. И хотя эта девочка младше его на два года, он хотел бы дружить с ней. Но она уходит, не оглядываясь. Она очень скучная сегодня, эта нескучная девочка…
У крыльца Динка неожиданно замедляет шаг, оглядывается. Ей вдруг неудержимо хочется рассказать кому-то о том, что с ней произошло, освободиться от тяжелого, противного груза на сердце.
— Хохолок! — зовет Динка.
Мальчик одним прыжком достигает крыльца.
— У тебя длинный язык? — строго спрашивает Динка.
— Короткий.
— Значит, ты умеешь молчать?
Мальчик пожимает плечами и отвечает тихим, серьезным голосом, слегка заикаясь:
— Я луч-ше уме-ю молчать, чем го-ворить. Динка нетерпеливо кивает головой и, схватив его за руку, отбегает к воротам. Там, жестикулируя и захлебываясь словами, она рассказывает ему про свое путешествие в лавру. Прижав руку к животу и глотая слюну, жалуется на то, как ей хотелось есть, как она уплетала за обе щеки горячий борщ и пирог и как черный монах с длинным лицом и желтыми космами бренчал перед ней железной кружкой… И как она еле-еле выбралась из-за стола. Но тут Хохолок, прижавшись спиной к воротам, вдруг съезжает на землю, беззвучно хохоча и дрыгая ногами. Динка на мгновение замолкает, но смех товарища, прорвавшись сквозь тяжелое ощущение стыда, вдруг словно освобождает ее душу; она видит себя, Динку, где-то со стороны, и непобедимый целительный смех возвращает ей радость этого дня.
— Я же вправду… думала… что задаром. Хорошо, что я у боженьки только один пирог съела… — заикаясь от смеха, добавляет она. — Я еще хотела кваску…
Глава двадцать третья
ЕМШАН-ПУЧОК ТРАВЫ СТЕПНОЙ…
Давно остались позади тревожные дни экзаменов. Алина и Мышка благополучно перешли в следующие классы. Мышка со своими четверками спокойно перебралась в пятый класс, а Алина, с горящими щеками, растревоженная и разволнованная собственными успехами, с блеском заняла подобающее ей место в седьмом классе. Вася тоже сдал свои зачеты и перешел на второй курс. Один Леня оставался еще только учеником своего репетитора.
В семье Арсеньевых наступило затишье.
Марина с трудом сводила концы с концами, от мужа не было никаких известий, брат тоже молчал. Катя написала коротенькое письмецо и жаловалась, что ребенок внес раздор между нею и Костей.
«…Костя дрожит над сыном и требует, чтобы я уехала с ним к вам, потому что зима тут суровая, изба, в которой мы живем, промерзает насквозь, бревенчатые стены изнутри покрываются инеем. Купаем Женьку и пеленаем только на русской печке. И все же я не соглашаюсь уехать, здоровье Кости подорвано, он затоскует и погибнет один… Мы часто спорим, и это очень тяжело…»
Письмо Кати огорчило Марину, она перечитывала его и потихоньку от всех плакала. Чаще всего получались письма от Лины. После низких поклонов Лина сообщила, что Иван Иванович поступил на железную дорогу и мечтает выучиться на машиниста, а насчет Никича Лина в каждом письме повторяла одно и то же:
«…Не трогайте вы с места старика, за ним здесь хороший уход, а у вас ходить за ним некому, намучаетесь вы с ним…»
Письма Лины только подстегивали Арсеньевых.
— Ax, боже мой! Надо же скорей его брать, что это Лина выдумывает! — волновалась Марина.
Никичу давно уже были посланы письма, в которых Марина и дети настойчиво звали его к себе, но в последнее время Никич тоже молчал.
Все это очень угнетало Марину, она осунулась, побледнела и по вечерам, опустив на руку голову и помешивая ложечкой чай, грустно задумывалась.
— Я еще никогда не видела маму такой… — с тревогой говорила сестрам Мышка.
— А вы поменьше жалуйтесь, что вам жарко и душно, все равно мама ничем не может помочь! Особенно ты, Динка! — возмущенно говорила Алина.
— А что я? Разве я жалуюсь? Это Мышка вытянулась, как ниточка, и все время попадается маме на глаза со своими острыми лопатками! — сердито бурчала Динка.
Она не чувствовала себя виноватой потому, что после двух неудачных походов нашла в себе силу воли честно сказать матери:
— Мама! Передари мне что-нибудь другое, потому что я все время расширяюсь, у меня такая плохая зона, что один раз я даже расширилась на лавровые пироги…
Заодно Динка рассказала и про торговку на базаре. Мама слушала и смотрела на дочку такими грустными, утомленными глазами, что Динка бросилась к ней на шею с глубоким раскаянием.
— Мама, я больше никуда не уйду! Мама, ты из-за меня такая грустная, да, мама? Из-за меня?
— Нет, Диночка… Просто я думаю, как бы мне вас чаще отправлять за город? Может, хоть по воскресеньям будем ездить куда-нибудь!..
Хохолок, который теперь часто заходил к Арсеньевым, предлагал возить Динку за город на своем велосипеде, но Леня строго-настрого запретил это.
— Смотри, Андрей, не вздумай и правда брать ее, а то, если что случится, ты со мной век не рассчитаешься, — сурово предупредил он. — Жара, духота, а я как безрукий сижу, никуда не могу сестер свозить! — с отчаянием жаловался Леня своему репетитору.
— Ну-ну! Этим летом ты и безрукий и безногий, нам нельзя терять ни одного дня. Пусть ездят с Алиной.
Но поездка с Алиной была мучением для всех троих. Алина ежеминутно дергала сестер, боялась, что они потеряются, сядут не на тот поезд, и бог знает чего еще она боялась, только щеки у нее всю дорогу пылали, а испуганные голубые глаза так тревожно смотрели по сторонам, словно она вывезла своих сестер не на прогулку, а на передовые позиции под обстрел неприятеля. О поездке на Днепр не могло быть и речи; куда-нибудь в лес они тоже не попадали. Приехав на ближайшую станцию, Алина добиралась с сестрами до какой-нибудь рощи или до опушки леса и, разостлав на траве плед, усаживалась с книжкой, ежеминутно командуя: