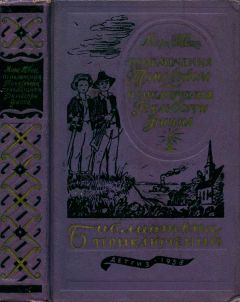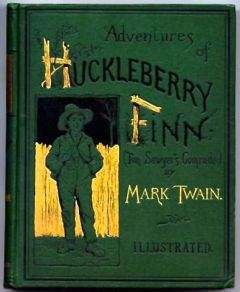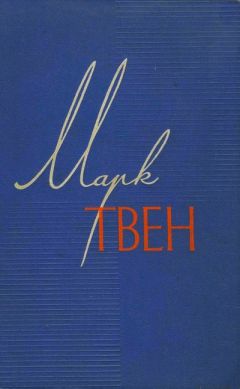У Лодьки заныло, захолодело в животе, но он пренебрежительно скривил губы:
— Подумаешь! Ну, давай!
Борьке, балбесу, крикнуть бы «не вздумайте, ненормальные, я сейчас Атоса позову!» Но он сказал совсем другое:
— Если Лодька не дрогнет, отдашь ножик. Как обещал в тот раз. Хоть промажешь, хоть нет…
Все вразнобой подтвердили, что это будет справедливо.
— Ладно, — улыбнулся одной щекой Фома. — А если Севкин хоть чуть-чуть сойдет с места или дернется… тогда что?
— Тогда бери мой поджигальник, — небрежно предложил Лодька.
— Ха! Самоделку-то! А ножик фирмы «Золинген», трофейный!
Нож и в самом деле был что надо! С узорчато-зеленой, как малахит, рукояткой, с никелированными лезвиями и всякими полезными инструментами: штопор там, отвертка, ножницы.
Лодька развел руками:
— У меня трофейного парабеллума нету. Не хочешь, не соглашайся… Но тогда кто из нас забоялся?
Фома сплюнул в подорожники.
— Ладно. Я-то ничем не рискую. Только имей в виду: стрелять буду шайбочкой.
…Эти железные шайбочки были похожи на таблетки размером с ребячий ноготь. За ними специально плавали через Туру, на свалку завода «Цепи Галля», там такое добро можно было брать горстями. В полете шайбочки свистели, как пули, и разносили стекло любой толщины.
У Лодьки опять отяжелела в животе холодная лепешка. Но он тоже сплюнул:
— Хоть разрывной пулей…
— А во что стрелять-то? — спохватился Гоголь. — Ни одного бутылька…
— Щас!.. — Толька Синий слазил за поленницу у кирпичной стены и выволок на свет пол-литровую стеклянную банку. Ту, в которой недавно хранились собранные на мяч деньги.
— Э… Э! — заволновался Цурюк. — Это моя банка!
Трофей Семена Брыкалина
Про банку надо рассказать отдельно. Она появилась в хозяйстве компании год назад, весной сорок девятого.
На улице Республики, напротив тогдашнего рынка, пленные немцы достраивали трехэтажный кирпичный дом — с высокими окнами и красивыми карнизами (говорили, что там будут отдельные квартиры с теплыми уборными и ваннами — для начальства, мол). Эти «гансы» и «вилли» доживали в плену последние дни, готовились ехать в свой «фатерлянд» и настроены были жизнерадостно. По городу они ходили теперь без конвоя, веселыми группами, иногда с гитарой, гладили по головам ребятишек, и те уже не шарахались, как раньше, а бывало даже, что угощали «немчухаев» семечками подсолнуха.
— О данке, данке, унзере либе киндер! — расчувствованно вопили пленные. — Русише дети есть отшень добрый!
Но не все «русише дети» были очень добрые. Однажды мимо стройки шел Семка Брыкалин, чье прозвище тогда было еще не Цурюк а Хнырь. До этого он болтался по рынку и, похоже что (вечно голодный) посматривал, не перепадет ли чего-нибудь с прилавка от невнимательных бабок. Но все бабки были внимательны. Разочарованный жизнью Хнырь перешел дорогу и побрел, загребая резиновыми сапожищами грязь на тротуаре у стройки. Немцы в это время — согласно строгому расписанию — расположились на обед, накрыв газетами невысокий кирпичный штабель. На самом краю штабеля, вблизи от тротуара, стояла стеклянная банка с какой-то снедью. Ближе всего остального — судков, консервов, кусков хлеба. Ну, сама просилась… Хнырь махнул над банкой, будто крылом, широким ватным рукавом и помчался прочь, прижимая добычу к замызганной телогрейке. Немцы что-то кричали вслед. Не сердито. Может, даже «мальчик, вернись, мы тебя здесь угостим!» Но Хнырь летел, разбрызгивая апрельскую грязь, аж до самой Стрелки. Думал, наверно, что там слопает содержимое банки без помех. Однако, на Стрелке оказалось многолюдно. Грелись на весеннем солнышке (ветер сюда не залетал), чинили чей-то велосипед и латали старый многострадальный мяч.
— Хнырь, тебя откуда сбросило? — поинтересовался Лешка Григорьев. — Дышишь, как стадо бегемотов…
Раз уж нельзя полакомится в одиночку, оставалось выглядеть героем.
— Во… — выдохнул Хнырь. — У фрицев надыбал. Они там расселись пошамать, а я — фьють! Наверно, варенье…
Красный сок обильно проступал сквозь самодельную бумажную крышку. Ее содрали…
Хныря никто особо не хвалил, но и ругать, конечно, не стали. Немцы, они теперь добродушные, но сколько люди от них потерпели во время войны, тоже помнилось. И потому урвать у них мелкую добычу никто не считал грехом.
Плоской, оторванной от полена щепкой подцепили то, что в банке, попробовали. Оказалось — не варенье, а что-то вроде компота из мелких, растущих по городским скверам и окраинным садам яблочек (видать, собранных еще с осени). Жилось-то пленным не сытно, вот они — люди аккуратные и деловитые — приспосабливали для еды все, что можно. Даже собирали по дворам крапиву для своих фрицевских щей и упорно звали ее «тополя», хотя добродушные хозяйки внушали им, что это «кра-пи-ва», а «тополя» это вот, большие деревья…
Когда попробовали все по очереди, осталось полбанки, и эту долю разрешили съесть Хнырю — все-таки его добыча. И он съел без промедления. Но при этом морщился:
— Кисло. Я думал, будет как чернослива. Они там орали: «Урюк, урюк!»
— Темный ты, будто печная вьюшка, Хнырь, — вздохнул Шурик Мурзинцев (прикидывая, конечно, как опишет этот случай в своем дневнике). — Они наверняка орали: «Цурюк!» То есть «назад». Дословно значит «к спине». «Цу» — это предлог «кы», «рюк» — спина. Возьми, например, «рюк-зак». «Спинной, то есть заплечный, мешок…
— Мы не проходили… — бормотнул Хнырь, старательно облизывая щепку.
Конечно, он врал. В пятом и шестом он сидел дважды, то есть учил немецкий уже четыре года подряд. А Лодька в ту пору был в пятом и уже тогда прекрасно знал, что такое «цурюк». Правда, не понимал дословного перевода — «к спине». Сам не догадался, а безжалостный и придирчивый Вильгельм Августович никогда не объяснял даже самых простых вещей. Зубри всё как попугай — и дело с концом. Главное, чтобы у всех был самодельный, из обрезанной тетрадки, словарик, в который полагалось постоянно записывать новые слова. Если забыл его дома, Вильгельм краснел, орал, и «пара» была обеспечена, пускай ты знаешь на память хоть целый словарь для вузов…
После того объяснения Шурика Мурзинцева (про «цурюк») Лодька поймал себя, что начинает смотреть на изучение немецкого языка более внимательно. Со «сравнениями». Интересно было делать открытия. Если подумать, то оказывалось, что «ди Зофа» — то же самое, что «софа» то есть диван. Парта называется «дас Пульт», потому что такая же наклонная, как пульт дирижера. «Ди Тафель» — доска, на которой пишут — похожа на «табель», на нем ведь тоже пишут для общего сведения. И на «таблетки» — не лекарственные пилюли, а глиняные дощечки, на которых в древности писали клиновидными знаками… А от слова «цайт» (время) происходит «цейтнот» (нет времени) и «ди цайтунг» (газета, то есть сообщения о событиях последнего времени). Ну и так далее… Этими соображениями он однажды поделился соседкой Галчухой, и они порой развлекались по вечерам, открывая новые «словесные связи».
— Галка, слушай! «Дер Цуг» это поезд. А упряжка цугом, это когда лошади друг за другом, как вагоны на рельсах!
— Да! А бухгалтер это от «дас Бух», книга, и «хальтен», держать. Тот, кто «держит книги». Отвечает за всякие денежные записи в них. У меня мама в Голышманово бухгалтер…
— Ха! А «бюстгалтер» значит «держатель бюста». Титьки поддерживать, чтобы не висели…
— Лодька! Хулиган бессовестный! Я скажу Татьяне Федоровне!
— А я-то при чем?! Это немцы! — Лодька уклонялся от пущенного в него учебника и укрывался за стулом. Галчуха отбрасывала стул, укладывала «хулигана» пузом поперек кровати, щипала за бока и лупила маленькой вышитой подушкой. Лодька верещал. Он боялся щекотки, но все равно получать такую взбучку было весело и приятно. А маме Галчуха ничего не скажет. Она знала про Лодьку вещи и поинтереснее, но не наябедничала ни разу.
— Ай, Галка всё! Только не щекоти! Больше не буду, Гитлер капут!.. «Капут» и «капитуляция» от одного слова…
— Безоговорочная?
— Ай! Да!.. Лучше заведи патефон! Ту самую пластинку, Пуччини!.. — Он знал, чем остановить Галчуху…
Ох, опять у автора случился «откат памяти». Он приносит свои извинения.
…А в тот апрельский день Хнырь выскреб щепкой банку, вытащил из языка занозу и шепеляво сказал, что пошел домой.
— Банку-то оставь, — сказал Лешка Григорьев.
— Зачем? Это моя…
— Ну и пусть твоя. А пригодится для общего дела.
— Для какого? — Хнырь глянул на опустевшую посудину с туповатым интересом.
Банка была как банка. Они, кстати, и через полвека остались почти такими же — из толстого стекла, с рубчатым ободком, чтобы закатывать вокруг него крышку. В общем, для фруктовых консервов и варений. Тольку в пору Лодькиного детства их чаще называли молочными. Потому что на обширном рынке, в громадном, как заводской цех, павильоне владелицы буренок и пеструшек продавали в них молоко, сметану и простоквашу. Пол-литровая банка молока стоила пять рублей…