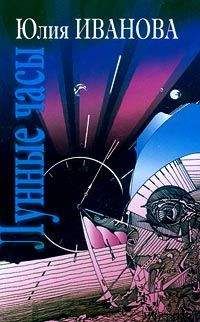До поселка гидростроителей нас доставила попутная машина. Мы мчались сквозь тайгу. Дорога петляла, падала в низинки, взлетала вверх. Сосны и лиственницы, густо стоявшие вокруг, неохотно уступали машине дорогу, сдвигали стволы, встречали нас то недобрым молчанием, то затаенным шумом и все время норовили хлестнуть веткой по лицу.
Но это им не удавалось: стволы разбегались по сторонам, давая место дороге. Правда, на одном слишком крутом повороте шофер не снизил скорость и машину так занесло, что Марфа едва не вылетела из кузова, но мы с Борисом вовремя ухватили ее за руки.
В поселке Борис сунул шоферу полсотни. Шофер, еще очень молодой, молчаливый, со скучным лицом, тотчас бросился к нашим чемоданам.
Когда машина скрылась в облаке пыли, Марфа вытерла платком виски и шею и устало сказала:
— Мало дал. Дал бы уж сотню.
Борис куснул губу.
— Ничего, он хороший парень.
— Может быть. Только права у него давно отобрать надо.
Я понял: продолжение ресторанной истории. Но эта стычка показалась мне мизерной по сравнению с тем, что случилось через час.
А через час, как утверждали старожилы, нам дьявольски повезло.
Угрюмый и небритый начальник ЖКО после долгого ожидания впустил нас в свой кабинет, оглядел с ног до головы, пропыленных, усталых, худющих, подпер по-старушечьи голову кулаком, тихонько вздохнул и закрыл на мгновение глаза.
Потом негромко, почти шепотом сказал, что, так уж и быть, даст нам комнату в щитовом доме. Комната, правда, не ахти какая — семь квадратных метров, вчера освободилась. Так вот, пусть мы не трезвоним вокруг, а потихоньку вселимся…
И жить бы нам в прочном деревянном доме, если бы не женщина с грудным ребенком на руках.
Она без стука вошла в кабинет, вся в слезах, издерганная, растрепанная, носатая, с худым, плоским лицом, и, даже не поздоровавшись, сразу закричала: когда начальник перестанет обманывать честных людей и переселит ее из палатки в дом, который уж месяц обещает, ведь ребеночек-то у нее больной, бронхит…
— Как только представится возможность, — сказал начальник.
— Я сытая вашими обещаниями! — закричала женщина. — Сами из коттеджа в коттедж переезжаете, а мы рабочая скотинка… — Она быстро положила на бумаги сверток с орущим ребенком и протянула к самому носу начальника ладони в буграх желтых мозолей.
— Не заслужила? Одну комнату на пять метров! У тебя такие мозоли есть? Покажи? Может, есть, да на другом месте…
— Не выражаться! — рявкнул начальник.
Я застыл, не дыша, а у Бориса округлились глаза.
— А вы ей нашу, — вдруг пробормотал он. — Мы как-нибудь так… Ничего…
Начальник резко поднял голову:
— Отказываетесь?
Марфа заерзала на стуле, закусала губы.
— Да нет, не о том он, вы не поняли его…
— Замолчи! — крикнул Борис. — Мы поживем и в палатке. Ничего с нами не сделается. Это ведь и в самом деле возмутительно: бронхит у ребенка…
Начальник внимательно посмотрел на Бориса, стряхнул с папиросы пепел и звучно отчеканил, обращаясь к женщине:
— Хорошо. Завтра я вас переселю. А вы, молодой человек, займете ее место. Все. Можете идти.
В коридоре Марфа заморгала ресницами.
— Видал, как тут? А ты… Когда тебя наконец научит жизнь?
Борис ничего не ответил ей, только буркнул что-то под нос.
Место в палатке еще не освободилось, и пришлось ночевать в конторе, вот почему я лежал на столе, разглядывая размалеванный под дуб металлический сейф в углу, стволы лиственниц в окне, засылал и просыпался и думал о своем будущем.
Разбудила нас уборщица, а через час комендант палаточного городка повел нас в свои владения.
Палатки начинались сразу за шоссейкой. Их было много. Может, целая сотня. Стояли они не как попало, а в правильном порядке, кварталами, как дома во всяком уважающем себя городе. И палатки были не временные, не те, которые носят в рюкзаках туристы. Это были большие стационарные сооружения из толстого брезента, с оконцами, деревянными дверями и тамбурами, с оттяжками, туго натягивающими брезент. От солнца и дождей они приняли грязновато-белесый цвет, и я не мог догадаться, какими они были новые.
Мы шли за комендантом возле умывальников, сложенных из камня очагов, белья на веревках. Шли по узкой дощечке среди месива бурой глины и луж.
У одной палатки зеленел крошечный огородик: картошка и два рыжих подсолнуха; у другой пламенел маленький цветничок.
— Девичье царство, видно, — предположил Борис.
— Точно, — буркнул комендант, — цветики, танцульки да слезы — что им еще надобно в жизни?
— Решительно ничего, — охотно согласился Борис, а сам обернулся и состроил нам такую рожу, что у меня закололо в животе и я едва не угодил в лужу.
Но Марфа и бровью не повела.
— Тута, — Комендант остановился у крайней палатки.
Она ничем не отличалась от других. Только находилась ближе к Ангаре.
Две женщины, стиравшие в тазах белье, выпрямились, убрали с мокрых лбов упавшие космы волос и с нескрываемым любопытством принялись разглядывать прибывших, то есть нас.
— Здорово, — грубовато пробасил комендант. — Новых вот привел…
Он дернул дверь. Борис, Марфа и я вошли в темный тамбур, и в нос мне сразу ударила вонь пеленок, запах подгоревшей картошки, а слух резанул визг: к двери через блоки был привязан на проволоке кирпич, плотно закрывавший дверь.
Внутри палатка была разгорожена дощатыми стенками — закуток на семью; ноги упирались в щелястый горбатый пол.
В комнатках — если так можно назвать закутки — слышался говор, всплески смеха.
Комендант открыл одну из дверей и тут же быстро захлопнул.
— Фу ты, сила нечистая, переодеться не дадут!.. — раздалось изнутри. — Стучаться надо…
— Ну не кудахтай, не кудахтай, — как можно вежливей сказал комендант. — Ты что незаконно захватила Манькину часть?
— А чего там… Хватит с меня… Пусть и другие душ принимают… Что я, глупая?
Комендант — уже более осторожно — отворил другую дверь, впустил нас, бодро пробасил:
— Располагайтесь. Постельное белье принесет уборщица.
И тотчас скрылся.
Марфа стояла посреди комнаты совершенно неподвижно, и только глаза ее бегали по сторонам. Оконце в маленькой раме запылилось, на полу у стенок — две алюминиевые раскладушки. Потолок из брезента местами прохудился, пропускал солнечный свет, а кое-где был залатан. Пол грязный, давно намытый, в каких-то красных пятнах.
— Так, — сказал Борис, повел ноздрями и еще раз произнес: — Так. Вот мы и в нашей резиденции.
Марфа ничего не сказала. Даже не улыбнулась. Лицо ее оставалось замкнутым и очень строгим.
Вдруг я заметил, как на глазах ее вспыхнула слеза. Она оторвалась и медленно поползла по щеке, оставляя узкий блестящий след, а потом покатилась быстро и исчезла.
— Марфа! — Голос у Бориса дрогнул, он подошел к ней, полуобнял одной рукой за плечи. — Ну зачем ты?.. Ну живут же здесь люди, и мы будем жить. Пойми. Это даже хорошо, что мы начинаем с палатки. Потом будет что вспомнить. Ведь не навсегда же это… Ну? Улыбнись. Да ведь здесь же просто прелесть: естественная вентиляция, ветерок, Ангара под боком…
Прелесть… Я хоть и рвался в Сибирь не меньше Бориса, но не был в восторге от нового жилья и не находил никакой прелести в этих щелястых полах и дырках в брезенте. Но я был мужчиной, а мужчина, как известно, знает, когда нужно говорить, а когда — помолчать. Особенно, когда помолчать.
И я молчал. Мужественно. Убежденно. Честно.
— Отойди. — Марфа отстранилась от брата. — Грязища вокруг какая… Где ведро взять?
— Идите ко мне, — вдруг послышалось из-за стенки.
«Удобно, — подумал я, — как по беспроволочному телеграфу, все слышно, и бегать друг к другу не надо».
Марфа вышла.
— Это вы мне предложили? — постучалась она в соседнюю дверь.
— Заходи, заходи.
Скрипнула дверь, и до моего слуха долетели охи да ахи. Представьте себе, нашей соседкой оказалась та самая худощавая женщина, с которой мы ехали на пароходе и у которой Марфа спрашивала о ценах на говядину, лук и огурцы.
Как старые знакомые, давно не видавшие друг друга, они принялись говорить сразу обо всем. Ну и смешные люди эти женщины. И так как была явная угроза, что они проговорят еще с добрый час, мы с Борисом вышли из палатки и стали слушать, как шумят пороги.
Они хорошо были видны отсюда — белые гривы и черные камни. При каждом порыве ветра шум усиливался, надвигался, повисал в воздухе, и меня вдруг охватило странное чувство: на мгновение мне показалось, что все это во сне: ряды больших палаток, дымки над каменными плитами, развешанное на веревках белье и в двухстах метрах Ангара в яростной пене и реве знаменитых порогов! Неужто это я стою здесь, в самом центре неоглядной Сибири…