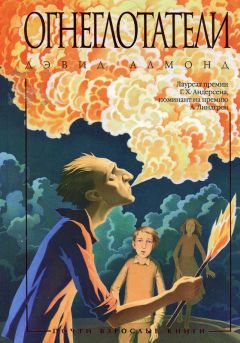Я пишу про жаворонка в вышине и одновременно вижу внизу Шепотка. Крадётся, хоронится в тени. Дикий зверь. Охотник. Ему нужна добыча. Жертва ему нужна. Может, мышка?
Я пишу и пишу, наверно, уже много часов. В зеленоватом, пятнистом свете. И рука моя в ладу с головой, а в голове мысли и слова, и я среди них брожу, и минута бежит за минутой, а в тайной сердцевине голубовато-зелёных яиц растут новые неведомые существа.
А потом я вдруг часто-часто моргаю, отрываюсь от блокнота и вижу то славное семейство — они наконец вышли из дома Эрни Майерса. Я их вижу, а они меня — нет. И не слышат они меня, потому что песенки я пою про себя. И подглядываю сквозь листья.
Мальчишка опять угрюмствует.
Родители радуются.
И все уезжают на синем автомобильчике.
Я наблюдаю, как они покидают мою улицу и мою страницу.
И думаю о том, как причудливо и таинственно слова связаны с миром. Вскоре моя ручка снова скользит по бумаге — я прямо-таки не могу остановиться, я должна писать и писать. Причём непременно здесь, на этой ветке, возле голубовато-зелёных в крапинку яиц. Этим голубовато-зелёным днём я сторожу их и пишу.
Я бы, наверно, до ночи писала, но мама позвала меня в дом. Я спрыгнула на землю — точно выпала из сна. Или не из сна, а из стихотворения или рассказа. Или сама я — стих или рассказ и вдруг попадаю в реальность. Или вылупляюсь из яйца! Но на тарелке-то у меня — спагетти-помодоро! И я вмиг вернулась к обычной жизни. Спагетти-помодоро! Я накрутила спагеттины на вилку и засунула в рот. И втянула в себя самые длинные, свисавшие по углам рта. И облизнула нижнюю губу, чтобы поймать каждую каплю соуса. Я жевала всё это великолепие долго-долго, перекатывала от щеки к щеке. Восхитительный вкус! Самый восхитительный в известной человечеству Вселенной!
Мама говорит, что однажды мы вместе поедем в Италию и отведаем спагетти-помодоро там, где это блюдо придумали. И сыр пармезан, и пармскую ветчину, и сушенные на солнце помидоры, и поленту, и ризотто, и маслины, и чеснок, и фетучини, и мороженое, и тирамису, и десерт забальоне — всё попробуем там, где родилась эта вкуснотища. Потому что в Италии эта еда самая-самая вкусная. Я пока совсем нигде не была, но мама обещает, что мы накопим денег и непременно побываем в Италии. И вообще, мне предстоит много путешествовать.
И вот мы доедаем спагетти, но на наших языках остаётся этот неповторимый помидорно-чесночный вкус. Мы пересаживаемся на диван и едим мороженое, а за окном уже заходит солнце.
Я рассказываю маме о яйцах чёрных дроздов, о щеглах и о семье, которая, похоже, скоро поселится в доме мистера Майерса.
Потом мы умолкаем. Просто наблюдаем, как темнеет небо, как густо краснеет горизонт, как окончательно закатывается солнце. Наблюдаем, как разлетаются по гнёздам птицы. А вдали, далеко-далеко и высоко-высоко, — самолёт. Я думаю о поразительных перелётах, которые совершают по миру птицы. И о путешествиях, которые однажды совершу сама.
— Болонья, — произношу я тихонько.
Мама улыбается. Иногда мы так играем: просто перечисляем названия мест, куда однажды поедем.
— А ещё Андалусия, — добавляю я.
— Луксор, — отзывается мама.
— Тринидад.
— Эк тебя занесло! Давай поближе. Ситон-Шлюз.
У нас сейчас мало денег. Когда мама забрала меня из школы, ей пришлось отказаться от кое-какой работы, чтобы заботиться обо мне и обучать меня должным образом. Но она не жалеет. И никогда об этом не упоминает. А про путешествия говорит, что, пока мы не накопим денег, можно путешествовать мысленно.
— И во сне, — добавляю я.
— Да, во сне — простор для путешествий!
— Летим в замок Эшби-де-ла-Зуш? — говорю я.
— Или во Владивосток.
— Пролив Корриврекен! И всё-таки Тринидад! И Перу.
Небо снаружи почти чёрное.
— Я сегодня узнала интересную вещь, — говорит мама.
— Какую?
— Оказывается, некоторые птицы не просто летают ночью. Они спят на лету.
— Прямо в полёте?
— Да.
— Какие птицы?
— Вроде стрижи.
Я улыбаюсь.
— Джон ОʼГротс.
— Графство Керри.
— Айерс Рок. Это в Австралии.
— Лхаса.
А потом я ложусь спать. Но прежде прикрепляю над кроватью просьбу. Ко сну.
Вначале этот сон вообще не был похож на сон. Скорее на пробуждение ото сна. Мина оказалась в своей собственной спальне, настоящей спальне, со всеми приметами. Но вдруг она понимает, что в комнате две Мины: одна крепко спит на кровати, а другая стоит рядом и смотрит на ту Мину, которая крепко спит.
«Странно, — думает она. — Я смотрю на саму себя. Такое бывает?»
И вдруг стоящая Мина начинает подниматься к потолку. А Мина, лежащая на кровати, не шевелится. Та Мина, что поднимается вверх, видит, что её и другую Мину соединяет серебристый шнур. То есть они — два отдельных существа, но в то же время одно целое. Поднимаясь к потолку, Мина всё проверяет, не пора ли уже испугаться, но ничего страшного на самом деле не происходит. Она смотрит на себя сверху, на бледное спящее лицо, на закрытые спящие глаза, на чёрные как смоль волосы. Спящая Мина дышит, и пуховое одеяло на ней едва заметно колышется. От неё веет покоем и уютом Мина улыбается и поднимается ещё выше — сквозь потолок, на тёмный чердак. Там лежат коробки с её детскими игрушками, с мамиными бумагами, с ёлочными украшениями и старыми книгами. Серебристый шнур, прошив пол, тянется вниз — к спящей на кровати Мине. А вторая Мина продолжает подниматься: вот она уже над крышей, над домом, в ночи. Выше только луна и звёзды, а ниже — Соколиная улица и родной дом. И туда, к другой, спящей Мине сквозь черепицу крыши тянется серебристый шнур, Она вздрагивает, напрягается, и шнур тоже на миг напрягается, словно вот-вот утянет её обратно вниз, туда, откуда она вылетела, но она говорит себе шёпотом:
— Не бойся, Мина. Лети дальше.
Она вдыхает полной грудью, и шнур больше не тянет её обратно. Мина парит в вышине над домом, над улицей, над цепочкой уличных фонарей, над тёмным парком, над всем городом, над бликующей гладью реки, над спиралью автострады, над дорогами, что ведут к торфяникам, а ещё дальше виднеется бескрайняя чёрная ширь моря, в которой отражаются звёзды и луна, и вращающийся луч маяка, и огни одинокого судна вдали.
И Мина смеётся.
— Я путешествую! — восклицает она. — Полечу-ка я в… Ситон-Шлюз!
Едва Мина произнесла название приморской деревушки, где ей прежде случилось пару раз побывать, как оказалась над ней. И всё там на месте, всё как было: и длинный пляж, и пенистый прибой, и белая таверна на мысу, и рыбацкие лодки на приколе, и речушка впадает в море.
Серебристый шнур мерцает и подрагивает. Он тянется куда-то далеко-далеко, связывая Мину-путешественницу с Миной, мирно спящей в кровати.
Она задумывается. И наконец решает:
— Каир!
Прошептав заветное название, она взмывает ввысь и летит на восток, через Северное море, через всю Европу — над большими городами и снежными горами. Она смотрит вниз и думает: «Это, должно быть, Амстердам! Альпы! Милан! Белград! Афины!» Потом она перелетает Средиземное море и оказывается у северных берегов Африки, где на небе уже занимается рассвет.
Она приближается к огромному и пыльному городу Каиру, слышит его гул, видит за ним, в пустыне, пирамиды. Она подлетает ближе, зависает над остриём самой большой пирамиды, а потом медленно-медленно опускается и встаёт на это остриё, на самый кончик пирамиды Хеопса. Остальные пирамиды и великий сфинкс вздымаются на горизонте по левую руку от неё, а проснувшийся Каир уже шумит по правую. Мина дрожит от счастья.
Внезапно серебристый шнур, который связывает Мину-на-пирамиде с Миной-в-кровати, натягивается, и она разворачивается и летит на запад, где пока властвует ночь.
Обратно она мчится ещё быстрее. Лишь ненадолго притормаживает высоко-высоко, выше облаков, отделяющих её от земли тонкой вуалью. Города Европы мерцают внизу, точно созвездия или далёкие галактики.
Вот же он — Рим! Она устремляется вниз. Уже различимы фонари, и, лентой вдоль улиц, светят автомобильные фары. А вот… У Мины даже дыхание пресекается от этого великолепия: подсвеченный снизу прожекторами Колизей, и площадь Святого Петра, и фонтан Треви. Раньше она видела их только в книгах. Но шнур тянет её дальше, всё сильнее, быстрее, и она снова летит. Рим остаётся позади — дрожащим пятном огней.
«Ну, ещё одно место, последнее! — заклинает Мина. — Дарем!»
И тут же видит собор, и замок, и изгиб реки под ними, а на востоке уже разгорается утренняя заря — всё ярче и ярче, словно само солнце пустилось за ней вдогонку. Со вздохом она произносит:
— Ладно! Теперь домой, спать!