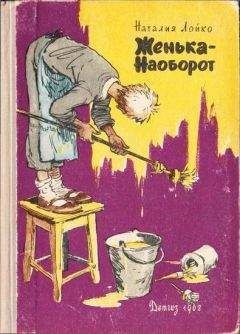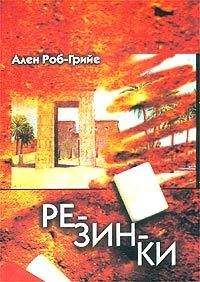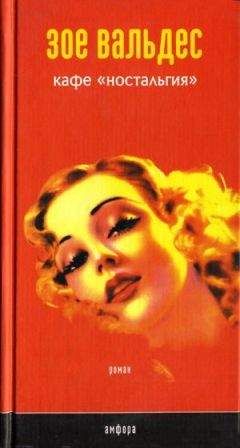Я был самый маленький из ребят. Плот мне казался громадным судном. Я смотрел на туго натянутые канаты, которыми он был привязан к берегу, на их нетерпеливую дрожь, и мне чудилось, что плоту наскучил этот тихий затон, и он рвется на середину, к Днепру, к морю…
Я стал бродить по плоту, перепрыгивая с бревна на бревно.
Вдруг я замер. Большая, пятнистая, пучеглазая лягушка сидела на пестром бревне и смотрела на меня. Она сидела, как маленькая собака, на корточках, подняв вверх головку.
«Вместо матроса, — подумал я, — матроса этого судна!»
— Эй ты, лягушка, откуда пригнали этот плот?
Лягушка молчала. Она была сонная, неподвижная. Наверное, готовилась к зимовке.
Тогда я протянул к ней руку и ступил на бревно, где она сидела. И очутился по плечи в воде.
То, что мне казалось бревном, было не бревно, а просвет между плотами, плотно затянутый кустами коры, бересты, пеной, палочками. Там-то и сидела лягушка.
Плавать я еще не мог, намокшая одежда тянула ко дну, а бревно передо мной было гладкое, мокрое, и пальцы съезжали с него, точно оно было намыленное.
Никто из ребят, занятых разговорами, не слышал, как я бултыхнулся, как пытался выкарабкаться.
Они стояли почти рядом, спиной ко мне, над чем-то хохотали, а я одиноко боролся с водой, с бревном и с той тяжестью, которая все сильней и сильней тянула меня вниз.
Все мое тело пронзил холод, руки онемели. Пальцы скребли по бревну, отыскивая в нем хоть какой-нибудь выем или бугорок, хоть какую-нибудь шероховатость.
Я барахтался, погибал, тонул. Страха не было. И не было мысли о смерти. Но мне было стыдно, нестерпимо стыдно позвать кого-нибудь на помощь, ну просто крикнуть, издать хоть один звук! До сих пор не могу простить себе этих пяти минут.
Я хотел вылезти сам. Стыд, что кто-то будет вытаскивать меня, как маленького, из воды, жег меня. И я молчал.
Пальцы совсем онемели, превратились в ледышки. Я по уши погрузился в воду. О лицо терлись куски сосновой коры и бересты. Один из ребят случайно обернулся.
— Смотрите! — крикнул он в испуге, и через несколько секунд я был вырван из воды шестеркой крепких рук и поставлен на бревно, на то самое, которое не мог осилить.
— Что с тобой? — спросил брат. — Как ты угодил?
С меня текли ручьи, зубы выбивали дробь, и я ничего не мог объяснить.
— Неси дрова! — крикнул кто-то. — Костер разведем.
На земляном настиле, специально для этого насыпанном плотовщиками, развели костер, и меня посадили к нему. Брат стащил с меня рубаху и коротенькие штаны с лямками крест-накрест. Все это развесили на палках вокруг огня.
Мне было холодно. Я сидел и стучал зубами. Но куда больший озноб ощутил я позже, лет через пятнадцать, когда впервые по-настоящему понял, чем могла кончиться эта история с лягушкой. Даже представилось, как все это могло произойти. Мальчишки оглянулись и увидели, что меня нигде нет. Куски коры и пена сошлись бы на том месте, куда я угодил, и, может быть, лягушка опять бы прыгнула на тот же островок, где сидела минуту назад. И все. Никогда б не ловил я больше в Припяти рыбу и не научился читать; не узнал бы, что есть на свете Бетховен и Циолковский; не бродил бы возле Ангары и Сены; не огорчался бы гибели «Челюскина», падению Мадрида, и не радовался салюту в честь победы над фашизмом, и никогда б не прочел «Войну и мир», и не увидел моря, и вовек не узнал бы, что человек велик и рожден для счастья.
Все бы кончилось в этом узком разводье между бревнами плота на Припяти…
Часа полтора общими усилиями сушили мою одежду.
На плоту было холодно, ветер задувал огонь, и мы перешли на берег, под горку. Я дрожал, как щенок, и, чуть согревшись, рассказал про лягушку.
До конца высушить одежду не удалось. Я кое-как натянул сыроватую рубаху и штаны, и мы пошли к дому.
— Не будем говорить маме, — попросил я брата.
Он согласился. Ему тогда было целых десять лет, и авторитет его не подвергался сомнению.
Матери — совершенно удивительные существа. Они насквозь видят и понимают все, что касается их отпрысков.
Конечно, после прихода домой мать каким-то образом сразу догадалась, что у меня мокрая одежда, и срочно заставила переодеться. А узнав, что это меня «окатил водой катер», не очень поверила и несколько дней подозрительно смотрела на меня. Сколько раз хотел я признаться, но ведь я был не какой-то там девчонкой, а шестилетним парнем.
Мой секрет, мою тайну мать узнала лет через десять и, узнав, заплакала…
Не бойтесь просить помощи. Но не всегда. А тогда, когда она по-настоящему нужна.
У обрыва Двины я услышал шум. Там толпилась вся наша дворовая братия. Высоко на кривой липе, над самым обрывом, кто-то громко хныкал, а внизу творилось невесть что.
Тут же узнал я, в чем дело, от Левки. Оказывается, час назад вбежал он во двор и закричал, что видел в сквере белку: она прыгала с липы на каштан, с каштана на клен, а потом скрылась в дупле.
Левка был отменный враль, все это знали, один только Витек мог попасться на удочку.
— Ах, какая белочка! — не унимался Левка. — Летит с дерева на дерево — пушистый хвост рулем держит и управляет полетом, а сама такая маленькая, хорошенькая, ушки торчком, мордочка как у котенка, только рыжая…
У Витька прямо глаза разгорелись.
— А поймать ее можно?
— Почему ж нет. Хочешь, я помогу тебе?
Увидев в глазах Витька недоверие, Левка крикнул:
— Не веришь? Провалиться мне на этом месте! Хочешь, землю буду есть?
— Не надо, — сказал Витек. — Пойдем.
Ребята гурьбой помчались к обрыву. За спиной Витька Левка корчил разные рожицы, по-лягушачьи выпучивал глаза и показывал длинный, выпачканный черникой язык.
Он привел ребят к обрыву и показал на липу с небольшим дуплом.
— Вон туда она юркнула… Снимай ботинки и носки. Я тебя подсажу…
Кое-кто из ребят стал отговаривать Витька — можно сорваться вниз, в крапиву, и сломать шею, но Левка клялся и божился, что ничего не случится. Витек послушался его и, разувшись, полез на липу. Подбадриваемый криками, он добрался до самого дупла, сунул туда руку и…
Конечно, никакой белки там не было.
Слезать было трудней, чем взбираться. Витек испугался высоты, немного сполз, оцарапав живот, и стал реветь.
Он был еще мал и очень добр. Как-то у меня кончились пластинки от «Фотокора» и почему-то они исчезли из продажи, и я, вздохнув, сказал об этом ребятам; Витек вдруг пропал и через пять минут явился с пачкой пластинок. У его отца был такой же фотоаппарат.
— Стащил? — спросил я у Витька.
— Папа разрешил, у нас еще есть.
Он был очень маленький и худенький — не скажешь, что третьеклассник. Скорей детсадовец старшей группы. Личико и острый носик его пестрели от сыпи веснушек. Они были и на ушах и на шее. Не было их только на глазах. А глаза у Витька были большущие — не у каждого десятиклассника такие! — и очень-очень ясные.
Витек не мог врать. Я давно знал это и поверил ему.
— Спасибо, — сказал я. — Как появятся в продаже — верну.
— Не надо, — обиделся Витек, — папа купит себе еще.
— А твой папа не бьет маму? — спросил Левка, стоявший рядом со мной, и подмигнул своему дружку Оське.
— Что ты! — серьезно сказал Витек. — Разве это можно? Он только раз накричал на маму, и то из-за меня.
— Что ты говоришь?! — разыгрывая величайшее удивление, воскликнул Левка. — И ты это слышал? Расскажи, Витек, будь человеком…
— А чего там говорить, — отмахивался от него Витек, — случайно… Под горячую руку… Сам потом просил прощения…
— И получил?
— Мама ведь понимала, что он не нарочно. Когда бываешь не в себе, не то можно сделать.
Мне было досадно: ну зачем Витек откровенничает с такими типами, как Левка и Оська? Неужто не видит злорадства на их нахальных рожах?
— За что же? — допытывался Левка.
— Это давно было, когда я только в первый пошел… Зажег я на окне увеличительным стеклышком бумагу, от нее — свечу, и сам не заметил, как загорелись кружевные занавески. Мама почувствовала паленое, прибежала и побила меня. Я упал и посадил две шишки на лбу. А здесь папа домой пришел, увидел меня ревущего и так накричал на маму…
Левка едва сдерживался, чтоб не захихикать. Его рот так и напрягался, так и вздрагивал.
— А как он на нее кричал? Обзывал как-нибудь? — спросил он, фыркнув.
Витек почувствовал недоброе:
— А тебе не все равно?
И, обиженно двигая лопатками, ушел от нас к своему подъезду.
— Ну что ты прицепился к нему? — спросил я. — Не успокоишься, пока не доведешь человека до слез.
— А тебе что, жалко? Тебя-то не трогаю. Я, может, ум его хочу развить. За природу потрудиться. Уж больно ненормальный он.
— Над собой лучше трудись. Банки тебе надо поставить от воспаления хитрости.