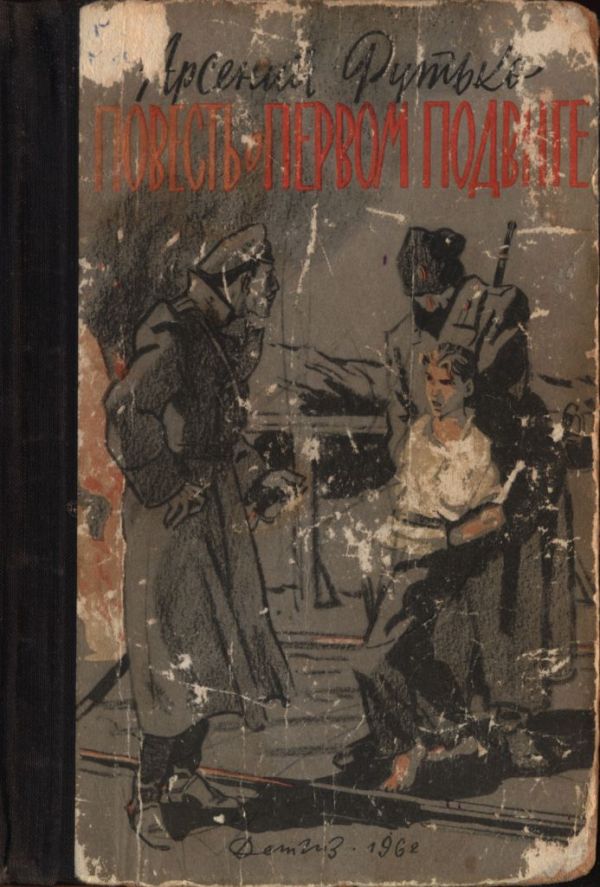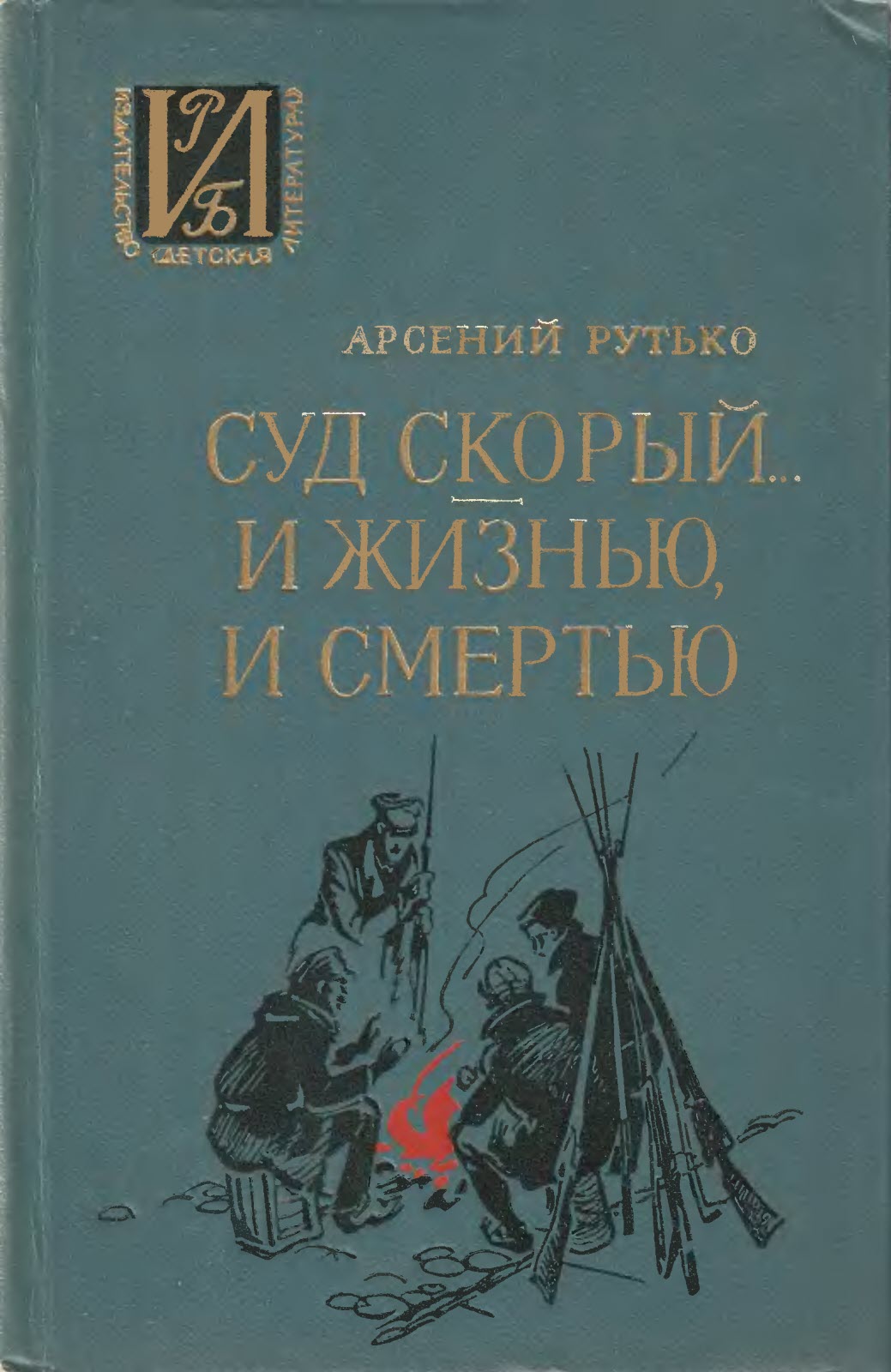силой толкнулся в ворота. Голос Ахметки Кривого крикнул:
— Да стой ты, шайтан, пустой башка!
Ворота заскрипели, открываясь, одно их полотнище с размаху ударило в стену сарая, задрожала паутина в углах, с потолка посыпалась пыль.
Я встал, вышел.
Кривой низенький Ахмет в мятой черной шляпе, в рваном пиджаке, подпоясанном веревкой, вел во двор под уздцы своего огромного пегого битюга.
За широченным крупом коня на телеге, среди нескольких убогих узлов, лежала лицом вверх светловолосая худая женщина с темным иконописным лицом. Щеки ее пылали болезненным румянцем, глаза неестественно блестели.
Я уже тогда знал, что это признаки чахотки: от нее в нашем дворе два года назад умер двадцатилетний Митька Трофимычев. Я хорошо помнил его, так как перед смертью он был очень злой и каждому из мальчишек барутинских бараков от него досталось ни за что, ни про что по нескольку затрещин… Теперь я понимаю, что он был злой от зависти к тем, кто останется жить.
Рядом с больной сидел темноглазый красивый мальчуган, а за телегой, как всегда поджав губы, шагала Оля. Я смутился от неожиданности, увидев ее.
Ахмет коротко кивнул мне, а Оля прошла, скользнув по моему лицу взглядом так же равнодушно, как по стене сарая. Остановилась телега против окошка той комнаты, где раньше жила тетя Паша. Когда ее уволили с мельницы, то выселили с семьей из барака — она переехала на другую улицу.
Оля сняла на землю малыша, помогла слезть больной. При этом ее строгое лицо вдруг стало таким милым и ласковым, что я не мог отвести от нее взгляда. Когда они вошли в дом, я вернулся в сарай.
— Что там? — сонно спросил Юрка.
— На Титихино место другие квартиранты приехали, — неохотно пробурчал я.
Так поселилась на нашем дворе эта странная девочка.
Через несколько дней, когда новые квартиранты обжились, когда возле больной, горюя и поджимая ладонями щеки, посидели все соседки, мать послала меня к ним попросить лекарство — заболела Сашенька.
Я с любопытством оглядел чистое, но совершенно пустое и неуютное жилье соседей. На полу, на тряпках, постеленных в переднем углу, лежала Олина мать, рядом с ней, смеясь, сидел сынишка.
Подоткнув подол своей юбочки, Оля мыла пол. Обернувшись на скрип двери, выпрямилась, вытирая со лба пот кистью руки, — совершенно так же, как это делала моя мамка. Посмотрела на меня, нахмурилась. Я видел: ей совестно за то, что они такие бедные, за то, что ничего у них нет. Я сказал про лекарство.
— Какое у нас лекарство! — с горечью ответила Оли на мать. — Нам без лекарства помирать положено.
Я еще постоял, посмотрел на пустые, голые стены. Лишь в углу висела бумажная иконка, и под ней, в деревянной рамочке, — две или три фотографии, а рядом — георгиевский солдатский крест. Глядя на этот крестик, я вспомнил сон и впервые по-настоящему почувствовал, что значит потерять отца. Словно нож повернулся у меня в груди, в самом сердце, мне стало до слез жалко и Олю, и почему-то себя, и Подсолнышку. Кое-как выслушав ответ, я убежал. Мамы дома не было: ушла за водой. Я сел рядом с Подсолнышкой и молча наблюдал, как она, изредка поднимая на меня свои синие глаза, кутает в тряпицы самодельных кукол.
Когда с двумя ведрами воды вернулась с улицы мать, я сказал, что никакого лекарства у соседей нет. Помолчал и добавил:
— Мам… Я больше в сарае ночевать не буду.
— Давно пора бы… Такие холода…
— А топчан, мамка, им бы пока отдать… на пока.
— Кому это? — не поняла мать.
— Да соседям. А то она больная, а — на полу… — Я робко посмотрел на мать. Она задумалась, глядя на Подсолнышку. Я сказал: — Мам, я думал — мы бедные…
Она невесело улыбнулась:
— А оказывается — богатые?
— Ну да! У них совсем ничего нет… Ты сходи к ним, мамка, скажи про топчан… А перенести я помогу…
Мать немного помолчала, потом ответила:
— Ладно, вот уберусь, схожу.
Сейчас, когда я вспоминаю то далекое время, мне кажется, что этот тревожный и тяжелый год был последним годом моего детства. Именно тогда я впервые почувствовал в себе еще неясную, но крепнущую силу, начал понимать, что происходит кругом.
И та горькая радость, которую мне давало присутствие рядом Оли, отчужденные, почти враждебные встречи с ней тоже приносили в мою жизнь нечто хотя и непонятное и тревожное, но необходимое и дорогое. Все мы еще были вместе. Была жива и Надежда Максимовна, человек светлой души и большого мужества. Правда, тогда она часто болела и неделями одиноко лежала в своей комнатке, которую снимала у вдовы какого-то маляра.
Мы с Юркой в то лето побывали у Надежды Максимовны несколько раз. Мне очень понравилась ее комнатка, чистая и уютная, — над ней словно раскинулось другое небо, не то, которое простиралось над всем городком.
Первый раз нас послал к ней отец — передать записку. Идти ему самому было слишком рискованно: после появления в городе двух или трех типографски отпечатанных листовок за домом Надежды Максимовны, конечно, следили, она все время была под гласным надзором полиции. Мы же, мальчишки, могли пройти к ней почти незаметно, перебегая со двора во двор.
Надежда Максимовна встретила нас, как родных. Лежала она на железной, маленькой, может быть даже детской, кровати у окна, выходящего в сад. Вернее, не лежала, а полусидела, держа на укрытых одеялом коленях растрепанную книгу. Книг у нее было много, они стопками громоздились на столе, на подоконнике, прямо на полу у кровати.
В окно протягивала ветки яблоня с уже поблекшими, тронутыми осенью листьями, на столике возле кровати стоял стакан молока и на тарелке лежали ломоть хлеба и большое красное яблоко.
В ответ на наш стук Надежда Максимовна откликнулась удивленно и тревожно:
— Кто? Войдите!
Потом она нам рассказала, что за время ее жизни в нашем городке к ней никто не приходил, кроме врача и жандармов.
Когда мы вошли, тревожное удивление на ее лице сменилось радостью. Она очень похудела, лицо стало почти прозрачным. Повязочка на шее еще больше оттеняла хрупкую, живую нежность лица.
— Даня! Юра! Вы?! Как я рада, — засмеялась она и губами, и глазами, всем лицом, не глядя бросила на подоконник книгу. — Боже мой, как я рада видеть вас, мальчики! Но мне даже посадить вас некуда…
— А мы постоим, Надежда Максимовна.
— Садитесь вон на чемодан, рядышком, как воробьи… Ну, как там Подсолнышка?