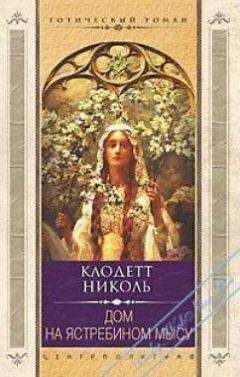«Нет,— сказал себе Русик,— не хочу!»
Он не мог представить, умозрительно вообразить, что его совсем-совсем не будет нигде во Вселенной. Другие еще могут исчезнуть, особенно Страхпом, а он... Русик передернул плечами, пошевелил пальцами ног, взял гальку и зашвырнул далеко в воду... А он, такой живой, всем нужный, уже умеющий читать книжки, он не растворится в жидкой атмосфере. Никогда! Гидроидам не удастся сварить из него суп. Русик будет защищаться
Подняв щепку, он отщипнул тоненькую палочку и нарисовал на песке гидроида: толстый, головастый, вместо лица — огромная пасть, вместо рук — жирные плавники, на хвосте — сопло турбины, как у сверхзвукового самолета. Подумав, залохматил голову сплошной бородой, выпятил живот и низ живота одел в плавки: неприлично же разумным существам голыми плавать. Вокруг начертил волны жидкой атмосферы.
Плутоний Сириус спросил:
— Ты кого это?
— Гидроида.
— Вроде на меня похож?
— Не-е. У него жабры и... турбина.
— Сотри. Отвратно видеть.
Русик размазал пяткой рисунок, поднялся, собрал свои вещи и хотел попрощаться с писателем-фантастом — вряд ли он сегодня что-нибудь интересное придумает: утомился, огруз и глаза вроде бы запотели мутно, как у полусонного, — но писатель, глянув в сторону бурно клокочущего пляжа, вдруг ободрился испуганно, схватил Русика за руку, притянул к себе.
— Жена идет... э-э... выручай!.. — Голос у него приглох, словно захлебнулся в нырке, потом зазвучал часто, с нарочитым смешком. — Скажи: немножко дядя позагорал, пять минут. Мне нельзя, понимаешь?.. Сердце... Она строгая, у-у какая! И скажи: просто так, про море разговаривали. Не любит, когда сюжеты разбалтываю, у-у!.. Выручай, чудик. За мной мороженое, пять порций.
Слушая, Русик смотрел мимо Плутония Сириуса — там, по кромке пляжа, расплескивая длинными загорелыми ногами воду, шла женщина в легоньком распахнутом халатике, в лифчике и трусиках — узеньким клинышком,— с высокой, крупными завитушками седоватой прической париком (Русик видел, как такие парики снимают перед купанием, прячут в сумки). Очень молодая женщина, спортивная и точно — строгая. От строгости у нее сдвинулись резко накрашенные брови, стиснулись в узенькую полоску губы. Красными ногтями она нервно терзала зажженную сигарету и сощурено, острыми полосками глаз нацеливалась на Плутония. Но заговорила вовсе не зло или нарочито не зло, как говорят с напроказившим родным ребенком:
— Платоша! Значит, убегаем, прячемся? Загораем сколько хотим, а после тяжело болеть будем, голубчик? Придется строго наказать тебя. Завтра будешь сидеть в комнате и не получишь сладкого.
— Я на минуту, на одну минуту снял рубашку. — Плутоний сердито и как-то жалобно подмигнул Русику: «Чего же ты?» — Вон мальчик видел, подтвердит. Скажи, мальчик.
— На одну, тетя, точно, на одну минутку...
— А ты молчи. Маленький, а врун уже. — Женщина прикрыла плечи Плутония рубашкой, подтолкнула его кулачком в затылок. — Вижу, спина покраснела. Поднимайся, голубчик.
— Не-е, тетя...
Женщина глянула на Русика так, словно через силу заставила себя внимательно разглядеть его, и нехотя, брезгливо скривила губы, не найдя в нем ничего интересного. Неожиданно шагнув к Русику, она склонилась над ним, опахнув нежным запахом лосьонов, сигаретного дыма:
— Ну-ка говори, рыжая бестия, что он тебе тут рассказывал, какие сказки?
— Про море мы... какое глубокое...
Метнув в рот сигарету, женщина протянула длинную руку, вцепилась острыми красными ногтями в Русиковы волосы, приподняла его с гальки, повернула к себе лицом — он увидел ее глаза, круглые, белые, как начищенные серебряные монеты,— и женщина оттолкнула его, негромко сказав:
— Чтоб я тебя больше не видела, дрянь шалавая! И ни слова никому! Понял?
Русик отбежал, позабыв прихватить свои вещи, подумал, что женщина расшвыряет их со злости, однако она уже не смотрела на него, нервно одевала Плутония Сириуса, устыжая ласковыми словами, потом толкнула его ладошкой в спину, повела впереди себя.
Они шли, высокая и тонкая, коротенький и толстый. Под ним тяжело скрипела галька, под ней — позванивала. Он ссутулился, втянул голову в борцовские плечи — голова лежала на плечах лохматым шаром, — свесил вяло и низко руки, смотрел себе под ноги, как виноватый, выпивший лишку мужик. Она вытянулась в струнку, медленно поводила головой, чуть кивая знакомым, и, казалось, полы халатика, отброшенные за спину, не смели касаться ее сердитого тела. Она была похожа на очень строгую детсадовскую воспитательницу и на неродную маму.
Вскоре Плутоний Сириус затерялся в пестром, шумном пляжном многолюдье. Русик вздохнул облегченно и обиженно. И едва не заплакал: «Зачем они так?.. Почему они такие?..»
Придя на мыс, он не стал разматывать удочку, готовить наживку: время упущено, рыба клевать не будет — полдень, самая жара, все засыпает в море и на суше. Да и старик Шаланда вон уже пробирается по камням к берегу, штаны засучены выше колен, пиджак отвис, кукан с бычками волочит по воде. Выкарабкался кряхтя, заметил Русика, вроде немного удивился, помотал белой головой:
— Здоров был, любимец! Опять тута?
— Опять.
— Ты как этот... комендант моря.
— Ты тоже.
— Ну, веселый любимец, ничего живешь-можешь?
— Помаленьку.
— Правильно делаешь. А я вон сколько наловил — твоему коту на раз мало будет. Штиль. Вода ушла, рыба уплыла, где поглубже. Ветер «степняк» — никудышний рыбак. Пойду, думаю, перекушу, пережду, вечерком подловлю.
— У меня есть. Хочешь? — Русик поднял и показал Шаланде клеенчатую сумку.
— А это... тебя не обижу?
— Я с запасом беру всегда. Мама побольше дает. Если поделюсь — чтобы самому хватило.
— Пошли тогда в тенек, вон в нашу пещеру. Закусим, переждем жару. Я и сам прихватываю чего поесть, да сегодня заторопился: вижу, «степняк» потянул — червя схватить надо. Спас, считай, Шаланду: в гору лезть — ноги переламывать. Взаимовыручка называется. В другой раз бабки Сониного пирога тебе принесу. Хорошие печет, с вишеньями.
В нише, под глинистым обрывом мыса, они садятся у застарелого кострища — здесь рыбаки пережидают непогоду, здесь прячутся от полуденного солнца. Русик расстилает газету, выкладывает бутерброды, ставит бутылку квасу. Едят молча, по очереди запивают. Старик жует, как трудную работу выполняет, — зубов почти нету, деснами быстро не перемнешь, и поэтому Русик молчит, старается есть медленнее, будто нехотя. А то подумает Шаланда, что он голодный, вовсе откажется угощаться.
— Ладно, любимец, я подремлю, ты помечтай. Тихо, слышь? У курортничков мертвый час. Опосля бычков надергаем.
Старик приваливается к теплой глинистой стенке, напухшими веками гасит скудную голубизну глаз, но не совсем — остаются узенькие водянистые блестки, словно не хочет он полностью терять жизнь, следит за нею, подглядывает. Седые жесткие волосы упали на лоб, тяжелый нос почти уперся в подбородок, четче проступили шрамы, морщины, все пунцово-бурое от солнца, ветра, морской соли. Костистый, крепкий старик. Таким и должен быть моряк, о таких, наверное, песни складывают. Может, и не выдумал он — о нем замечательная песня «Шаланды, полные кефали...».
Русик вспомнил о Плутонии Сириусе. И теперь пожалел его: каким он страшным казался, когда фантазировал о планете Гидрастис, и как струсил, увидев свою жену! Мальчишкой стал, даже уменьшился в росте. Его, пожалуй, обижает жена. Ну конечно, завтра не пустит на пляж, сладкого не даст. Интересно, на ключ замкнет? А он ничего, Плутоний, хоть и капризный мужик... Надо увидеться с ним потихоньку, мороженое принести или конфет. Лишь бы она его не заперла.
Старик Шаланда, приоткрыв густо подсиненные, будто обновившиеся под веками глаза, достал папиросы «Север», свои всегдашние, задымил, сладко причмокивая.
— Табачок — человек, голову проясняет, душу успокаивает. Покуришь — как умно побеседуешь. — Он засмеялся от очень хорошего настроения, толкнул Русика в плечо деревянно жесткой ладонью: — Давно не видались. Занятый был, что ли?
— Ага, занятый.
— А живешь ничего?
— Помаленьку.
— Отец не вернулся, говоришь? Знаю.
— Он на супертанкере теперь, «Орел» бросил. В далекие страны ходит.
— Понятно, любимец, дальше некуда. А этот, оглоед занудный, борщи большой ложкой стёрбает?
— Иван Сафонович? Ему витаминов не хватает.
— Ему вот чего не хватает. — Шаланда стиснул и поднес к Русикову лицу бурый, угластый, с растрескавшейся кожей кулак, похожий на застарелый древесный обрубок. Но тут же опустил, видимо, застыдился своей неожиданной сердитости, заговорил, полуотвернувшись, вполголоса, словно бы для себя: — Измордовали бабу, ума лишили... Один бросил, дурак, на дочку капитанскую позарился. Другой... другой не дал опомниться — слизняком прилип. Ласки-сказки... Тьфу!..