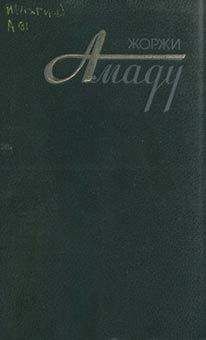Кто не видел, и тому, я думаю, смешно читать будет, a посмотреть, так, я вам говорю, умереть можно.
Целое было — «кулебяка». Ничего особенного: именины и угощают кулебякой.
Другая шарада была тоже уморительная, не так чтоб и слишком comme il faut [51], но ведь мы были все свои, только родные. Петр Ильич не считается, он все равно что свой, да и тут опять он одну из главных ролей исполнял. Я ее все-таки запишу, a коли кого-нибудь из читающих мой дневник уж очень большая comme il faut’ность [52] одолеет, пусть перемахнет странички через две, но только, право, он много потеряет. Уж мамуся моя, вы знаете, y-ух как за bon genre [53] стоит, a здесь и она не выдержала, смеялась как девчурочка.
Другая шарада была — «карикатура».
Первая картина — корчма. Женя в переднике (накидка с подушки), платочек (чайная салфетка) на голове — хозяйка. Публика заходит закусить и выпить, кто рюмочку, кто две. Вдруг дверь с шумом распахивается, и в шапке набекрень вваливает гуляка-француз — Боба.
— Эй, madame! Un quart [54] де водкэ! — кричит.
Женя низко кланяется.
— Стаканчик прикажете, вашей милости?
— Нэ, нэ, стаканшик, donnez un quart [55] де водкэ! — грозно вопит француз.
— Рюмочку, рюмочку? — все не понимает хозяйка.
— К шорту рюмашка! Quart, quart де водкэ! — ревет гуляка.
— Прости Господи, что твоя ворона раскаркался, — говорит Женя. — Ну его! Дам четверную, пусть пьет…
И приносит ему большую бутыль.
Это было «quart».
Второе. Все мы будто идем дачу нанимать. Выходим на улицу, то есть в гостиную, a там метут, каждый около своей дачи, три дворника: Петр Ильич, Боба и Володя — и беседуют себе, по-настоящему, по-дворницки. Мы появляемся. Наташа обращается к Бобе:
— Нельзя ли, любезный, дачу осмотреть?
— Да что ж нельзя? Иик… завсегда… иик… можно… Пожа… иик… луйте… иик…
— Фу, какой ужасный дворник, не будем лучше и дачу смотреть, — говорит Наташа и поворачивается к дворнику: — Мы, братец, другой раз зайдем, теперь поздно.
— Мо-ожно… иик… и другой… что ж… иик… нельзя? Мы… иик… завсегда… иик… готовы… иик… служить.
Подходим к Володе. Наташа опять:
— У вас, братец, дача сдается?
— Так… иик… тошно… иик… ваше пре… иик… восходи… иик… тельство и… ик…
Наташа не может сдержать хохота, мы все тоже валяемся, даже мамуся весело так, раскатисто хохочет. Но Наташа опять входит в роль, подтягивает губы и обращается к нам:
— Я думаю, здесь и смотреть не стоит, видите, тут дворник тоже уже начал… — она не договаривает.
— Да, да, конечно, — говорим мы, — не стоит, вон там третий стоит, приличный такой, верно, и дача хорошая.
Подходим к Петру Ильичу:
— Сдается дача? Можно посмотреть?
— Можно… иик… можно, а… иик… сколько… иик… вам комнат иик… иик… иик… иик…»
— Нечего сказать, хороши, — говорит Наташа, — точно все сговорились. Фи, уйдем, может, это заразительно, я чувствую, что и мне что-то хочется иик… икать…
Второе, вы поняли — было, pardon, «икать».
Третье — «ура». Ничего особенного: пили на свадьбе за здоровье новобрачных и кричали «ура».
Целое — «карикатура» (немного оно безграмотно вышло, мягкий-то знак лишний, ну, да ведь это не русский урок — сойдет).
Нарядили мы все того же Петра Ильича дамой, в белое платье, которое смастерили из всяких покрывал, на голову надели ему такую большую мамочкину шляпу с пером, дали веер в руки, и вот он, приподняв шлейф и приложив руку к сердцу, сперва присел, a потом нежным женским голосом запел: «Поймешь ли ты души моей волнение…»
Дальше не помню, какие-то мечты, цветы, что-то подобное. Нет, надо было видеть его! Умирать буду, не забуду!
Много еще шарад представляли, да всех не опишешь. Потом сделали маленькую передышку. Кто пить пошел, кто курить, кто что-нибудь с елки снимал пожевать.
Вдруг через некоторое время появляется Володя, и физиономия у него этакая особенная, сильно жуликоватая, сразу видно, что какую-нибудь штуку устроит:
— Многоуважаемые тети, дяди, папа, кузина, гости и все старшие! Прошу минутного внимания. Сие произведение…
Дальше я со страху не слышу. Ну, думаю, беда, — на дневник мой наткнулся, верно, ключ в столике оставила, вынуть забыла. Руку за воротник: нет, есть, на мне мой ключик. Слава Богу, как гора с плеч. Что же он там откопал?
— Итак, — слышу опять, — выньте носовые платки и прошу внимания.
Вытягивает что-то из кармана… Батюшки! Сашин роман! В руке у Володи синеет тетрадочка, a Сашины уши сперва краснеют, как кумач, a затем стремглав скрываются вместе со своим обладателем в соседней комнате.
— «Любовь Индейца Чхи-Плюнь», — возглашает тем временем Володя, — роман политический и литературный.
И начинает:
— «Было очень жарко, и индеец Чхи-Плюнь хотел пить (а до реки Невы бедняжке далеко было, — от себя вставляет он), a потому он стал собирать землянику в дремучем лесу, около Сахары, где рычали свирепые Тигры и Ефраты. Тогда он видит, что идет (хватит ли у меня только сил выговорить?) чудной красоты индейка Пампуся. “Пуся, моя Пуся, милая Пампуся, — опять коверкает Володька, — женись на мне, будешь мадам Чхи-Плюнь!” — “Хорошо, — говорит Пимпампуся, — я женюсь на тебе, если ты меня любишь. Но если ты меня любишь, о мой Сам-Пью-Чай, то подари мне золотое кольцо, которое продето в нос нашей царицы Пуль-Пу-Люли”. — “Хорошо, — говорит Чхи-Плюнь, — подарю!” И он пошел тащить кольцо из носа Пуль-Пу-Люли (до чего, о любовь, ты не доводишь! — опять понес Володя отсебятину, закатив глаза и вздыхая), a индейка раскрыла зонтик, села на блюдо и помчалась на крыльях радости прямо на кухню, где ее, начинив предварительно черносливом, изжарили в свежем масле. Мир праху твоему, царица души Чхи-Плюнь». Продолжение следует…
Хохот был всеобщий.
— Браво! Браво! Автора! Автора! — закричал сам же первый Володька, ну да и мы, грешники, подтянули.
Но автор пропал без остатка. Пошли на розыски, и наконец дядя Коля вытащил его, несчастного, из-под дивана в мамином будуарчике, куда он забился. Хоть и не люблю я его, но он так был сконфужен и имел такой жалкушенский вид, что мне его немножко жаль стало. A Володьке-то от старших влетело за то, что он бедного Сашу переконфузил.
Да уж насмеялись и надурачились мы в тот вечер вволюшку. Хорошо!
Праздники. — Каток. — Мои успехи
Вот и оглянуться не успели, как уж праздники и тю-тю, иду завтра в гимназию. Одно знаю, времени мы даром не потеряли и повеселились всласть. Всего подробно не расскажешь — где там, это и за сутки не опишешь. Передам только самое интересное.
Занялась я, по выражению Володи, «образованием своих ног», и это было страшно весело.
На другой же день после того, как я получила коньки, стала я умолять мамочку отпустить меня на каток. Но тут чуть не тридцать пять препятствий оказалось: и будний-то день, значит, гимназия; и снег хлопьями сыплет — a в снег, видите ли, кататься почему-то, говорят, нельзя; и идти не с кем, некому меня учить. И чему же тут, думаю, учиться? Прицепи коньки да и скользи.
Это я так думала раньше, но теперь больше не думаю: ох, как есть чему учиться! И научившись, и то нет ничего легче, как нос расквасить, или, еще того хуже, на затылок шлепнуться. Но от этого Бог меня миловал, зато колени ой-ой как отхлопаны и правый локоть тоже. Но это вовсе не потому, что я такая уж косолапая. Володя говорит, что я совсем даже «молодчинина», — просто несчастный случай. Опять вперед убежала. Ну, так сначала.
Наконец настал день — не будний, снегу нет, и идти со мной есть кому, потому что Володя целый день у нас, a он ведь мастер по конькобеганью.
— Ну, — говорит за завтраком, — проси, Мурка, маму, чтобы тебе позволила сегодня совершить твой первый комический выход. Погода разлюли малина, лед гладкий, хороший. Вот и приятель мой один сегодня там будет, вдвоем за тебя и примемся, живо дело на лад пойдет.
— А он приличный мальчик, приятель-то твой? — спрашивает мамочка. — Ничего так?
— Ничего, тетя, кадет как кадет. Ноги до полу, голова кверху, славный малый. Тямтя-лямтя немного, но на коньках здорово зажаривает.
— Володя! — с ужасом воскликнула мамочка. — Что за выражения у тебя! С непривычки так просто огорошить может.
— Что, тетя, я! Я-то ничего — одна скромность. Вот ты бы наших «стариков» послушала, так они не то что «огорошить» — «окапустить» своим наречием могут.
Господи, какой он смешной! Ведь это же выдумать надо: «о-ка-пу-стить»… Я как сумасшедшая хохотала. Вы думаете, мамочка тоже смеялась? Ни-ни, даже не улыбнулась. Я вам говорю, что она таких острот совсем не ценит, даже не понимает. Оно, положим, действительно, не так чтобы уж очень шикарно: «окапустить», но смешно. Жаль: все что смешно — mauvais genre [56], нельзя ни при ком повторить.