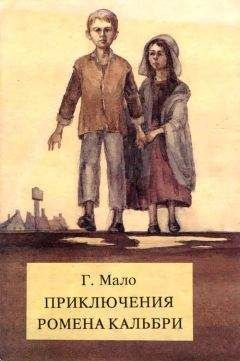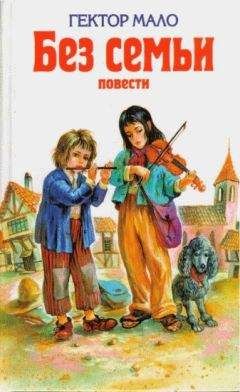— Г-н Кальбри, но ведь вы меня грабите, побойтесь Бога! — бедняк был бледен, как полотно, и на глазах у него дрожали слезы.
Дядя пожал плечами — как, мол, хотите, и сделал движение запереть деньги в ящик!
— Умоляю вас, г-н Кальбри, пощадите меня, ради всего святого!
Дядя не поворачивался и щелкнул ключом.
Тогда несчастный человек увидел, что легче скалу сдвинуть с места, чем тронуть этого человека, и проговорил глухо:
— Давайте деньги.
Дядя молча протянул пачку.
Каменщик мрачно пересчитал банковые билеты, спрятал их и, надевая шапку, проговорил:
— Лучше век оставаться таким бедняком, как я, чем богатеть такими путями, как вы, г-н Кальбри, ограбив бедняка, — и он вышел не поклонившись.
Дядя побледнел от злобы и стиснул зубы:
— Это дело вкуса! — послал он вдогонку, а сам запер за ним дверь и обратился ко мне.
— Теперь я разделаюсь с тобой, голубчик! — и с этими словами он отвесил мне такую пощечину, что я, как сноп, покатился снова под стол.
— Отвечай мне, бездельник, ты нарочно подстроил мне всю эту штуку с деньгами, я наверно знаю, что нарочно! — при этом лицо его исказилось от злобы. Удар сделал мне страшно больно, но не лишил сознания, мне хотелось одного — отомстить моему мучителю.
— Да, я сделал это нарочно! — как можно твёрже ответил я, приподнимаясь с пола.
Он бросился на меня с кулаками, но я был увертливее его и в одну секунду очутился по другую сторону стола. Он сообразил, что, бегая вокруг стола, ему меня не догнать, тогда он оглянулся кругом, схватил со стола огромную счетную книгу и со всего размаха запустил ею мне в голову. Я покатился кубарем, ударившись головой об угол стола и на минуту потерял чувство. Придя в себя, я с трудом поднялся и от слабости еле держался на ногах. Все лицо у меня было залито кровью.
— Ступай умойся, паршивец, и запомни хорошенько, что тебя ожидает на будущее время, если ты будешь вмешиваться не в свое дело. А если ты еще хоть раз повторишь что-либо подобное сегодняшнему, я тебя изобью до смерти.
— Пустите меня домой к маме, — зарыдал я в ответ.
— Домой, к маме! Скажите, какие нюни распустил. Помни, каналья, что ты обязан прослужить у меня пять лет и что раньше этого срока ты никуда не уйдешь, дуралей! Я тебе такую маму покажу, что ты будешь помнить всю жизнь, заруби себе это на носу. Раньше пяти лет — никуда ни шагу!
Мне и прежде не раз приходило на мысль убежать от дяди; пробраться из Доля в Гавр, там попроситься на какой-нибудь корабль и уплыть подальше в море — в Австралию или Бразилию. Особенно часто я думал об этом в часы голодовки и безотрадного одиночества.
Мысль о матери останавливала мои планы, но жизнь у дяди была до того невыносима, что если бы она знала, как мне тяжело, то, верно, скорее согласилась бы отпустить меня на корабль, чем оставить в Доле. Все равно я живу в разлуке с ней, а пять лет впереди казались мне вечностью. Во время отлучек дяди я часто намечал себе дорогу на большой карте Нормандии, которая висела у нас на лестнице вместе с другим хламом. Г-н Бигорель научил меня обращаться с географическими картами и я довольно ясно представлял себе расстояния. За неимением настоящего циркуля я устроил себе самодельный, или, вернее, подобие его из дерева, и разграфил карту так, как учил меня этому когда-то все тот же незабвенный г-н Бигорель.
Из Доля мне надо было направиться через Понтарсон в Арванш; только к вечеру я туда доберусь. Из Арванша к Виллер-Бокажу, потом в Казн, Дозюле и через Понт-Эвек в Гонфлер. Это займет дней восемь ходьбы, не больше. Хлеб стоил в то время три су за фунт. Если бы только я мог скопить себе 24 су, я бы дорогой не умер с голоду! Но где их достать? Вот в чем был весь вопрос. Меня больше всего останавливало это непреодолимое препятствие, потому что дядя никогда не давал мне ни одного су. Но дольше выносить голод, одиночество, непосильную работу и, наконец, жестокие побои за правое дело я больше не мог.
Дядя представлялся мне каким-то отвратительным злым пауком, и жить еще пять лет в полной власти у этого паука! Нет, лучше голодная смерть, чем такая жизнь, думал я, уткнувшись в подушку. Я задыхался от горечи, обиды, боли, а дядя к тому же запер меня в моей комнате на ключ.
— Убежать, сегодня же и во что бы то ни стало, чем скорее, тем лучше! — думал я. Благо теперь лето, на дворе тепло. На лугах и полях косят сено, на котором можно выспаться ночью, а в лесах я могу найти ягоды и птичьи гнезда с яйцами. Буду питаться чем попало. Наконец, может быть, я случайно найду на дороге несколько су, или встречу доброго человека — извозчика, который подвезет меня, а может быть, и даст кусок хлеба, если я постерегу его лошадь, пока он будет обедать в харчевне. Ведь в этом ничего нет невозможного, разве не бывает подобных случаев?
Только бы мне добраться до Гавра! Дальше я не сомневался, что найду капитана какого-нибудь корабля, который возьмет меня юнгой — вот я и моряк! Чего же лучше, это именно будет жизнь, о которой я мечтал с тех пор, как стал себя помнить.
На корабле я буду делать все, что мне прикажут, может быть, даже что-нибудь заработаю и привезу все деньги матушке. Как она обрадуется мне, наверно простит, мой побег, когда я расскажу ей, как мне невыносима была моя теперешняя жизнь, и мы больше не будем никогда с ней разлучаться! Ну, а если, чего доброго, корабль наш потерпит кораблекрушение, и тут беда невелика — необитаемый остров, дикари, попугаи… Я буду жить, как Робинзон, недаром г-н Бигорель учил меня всякой всячине, теперь мне все это пригодится! А какая это будет привольная и необыкновенная жизнь! При мысли об этом чудесном будущем я уже не чувствовал боли от раны на голове и забыл, что я еще сегодня не ужинал.
Каждое воскресенье дядя с утренней зарей отправлялся на весь день в свое новое имение и возвращался только поздней ночью.
Таким образом, от вечера субботы и до понедельника утра я был уверен, что не увижу его.
Если бы мне удалось бежать сегодня ночью, то у меня впереди целых 36 часов до того времени, что он хватится меня искать. Но убежать было нелегко: у дверей были крепкие замки, единственная возможность была выпрыгнуть в окно, хотя от земли оно было и высоко, потому что комната моя была на втором этаже.
Можно упасть и здорово расшибиться, но другого способа не было! Если же я выберусь удачно из окна во двор, то перелезу через дыру, оттуда в сад г-на Бугор, а от него рукой подать до полей и до большой дороги.
Я тщательно обдумывал этот план, лежа в темноте. Конечно, надо было действовать крайне осторожно, чтобы не попасться, и ждать момента, когда дядя крепко заснет.
Мысли мои были прерваны неожиданными звуками осторожных шагов на лестнице; я притворился, что крепко сплю, и повернулся лицом к стене. Дядя на цыпочках вошел в мою комнату, осторожно отперев дверь ключами. В руке у него была свеча. Другой рукой он закрывал свет; он подкрался к моей кровати.
Что если он уже догадался о моих планах и теперь начнет за мной следить, с ужасом подумал я, сердце у меня замерло при этой мысли. У страха глаза велики. Дядюшка, по всей вероятности, был далек от подобных подозрений. Он прислушался, полагая, вероятно, что я крепко сплю; он наклонился надо мной, поднес свечу к голове и осмотрел рану, слегка откинув волосы.
— Пустяки, завтра же заживет, — пробормотал он, — и так же тихо вышел, как и вошел, причем снова запер дверь на ключ.
Приблизительно час спустя после этого визита я тихонько встал с постели, прислушался: в доме ни звука, дядя, наверно, теперь крепко спал. Я стал готовиться к побегу. Что надеть — праздничное платье или простое? Одну минуту я колебался, но благоразумие взяло верх, и я надел толстую куртку и панталоны из грубого матросского сукна. В узел завязал две рубашки и пару чулок, а башмаки взял в руки, чтобы не стучать, и босиком пробрался к окошку.
Тихонько открывши раму, я бросил вниз узелок и хотел начать спускаться по водосточной трубе, как вдруг меня осенила смешная мысль.
Я отошел от окна, ночь была хотя и безлунная, но довольно светлая, к тому же глаза мои привыкли к темноте. Я подставил к стене стул, влез на него, осторожно снял со стены картонного крокодила, перерезал карманным ножом веревку, на которой он держался, схватил его обеими руками и уложил на свою постель. При этом укрыл его с головой одеялом, так что издали фигура походила на спящего человека.
Воображаю, какое лицо сделает дядя, когда утром в понедельник придет меня будить. Эта мысль меня развеселила до того, что я схватился за бока и удерживался как мог, чтобы громко не расхохотаться.
Еще подумает, пожалуй, что крокодил меня съел, а сам лег на мое место. Эта шутка казалась мне до того забавной, что я позабыл всю опасность своего предприятия. Как он разозлится, как будет плевать и кричать, а меня и след простыл, я уж в это время буду, у-у! Как далеко!