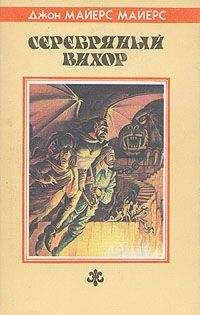— Ну что ж, Талалихину так Талалихину, — согласилась старшая пионервожатая. — И, как я поняла, ответственным за это мероприятие будет староста класса Сережа Медведев. По принципу: кто предлагает, тот и исполняет. Сережа, согласен?
— Согласен, — кивнул головой Сережа.
— Хорошо, давайте. Завтра же проведем совет отряда. Наметим план работы и будем готовиться, а за тобой, Вова, новая речовка.
Домой шли молча. Коля Макаров о чем-то сосредоточенно думал. Вдруг он всплеснул руками:
— А ведь ты не знаешь поэта Михаила Николаева!
— Знаю, — порозовел Вовка. — Он мне еще книгу подписал: «Володе Булкину желаю вырасти хорошим человеком».
— Врешь! — резанул воздух Коля.
— Нет… Правда… Точно… Книжка стихов… Маленькая такая. Могу показать.
— Врешь!
— Вот пошли ко мне, увидишь. — Но Коля усмехнулся, и Вовка, опустив голову, признался: — Книга есть. Мама просила поэта подписать для меня. Но я… Я тоже попрошу…
— Да что там, у него таких, как ты, целый двор.
— Думаешь, откажет?
— Да ты что! Не будет он с тобой связываться. У тебя хоть есть его телефон?
— У мамы, наверно, есть в книжке. А может, все-таки он поможет?
— Ну, надейся, надейся.
— Ну ладно, посмотрим. Сегодня же позвоню, — сказал Вовка и пошел домой.
Дома он достал из серванта мамину записную книжку и тут же набрал номер.
— Николаев. Слушаю, — раздался голос в телефонной трубке. У Вовки заколотилось сердце и трубка задрожала в руке. Впервые за свою жизнь он разговаривал с поэтом.
— Я… Знаете… Хочу вам… Можно?.. — залепетал он.
— Извините, я тороплюсь. Вы хотите со мной встретиться?
— Да.
— Хорошо, завтра в семнадцать часов вы можете прийти, — и поэт назвал свой адрес. — Простите, а сколько вам лет.
— Тринадцать, — промямлил Вовка.
— Интересно, — с улыбкой в голосе сказал поэт, — обязательно приходите.
Он пришел чуть раньше назначенного срока. Волнуясь, минут пять потоптался на лестнице, а потом слегка коснулся кнопки звонка.
Дверь открыла маленькая, сухонькая, аккуратная старушка в стареньком байковом халатике с кухонным полотенцем на плече.
— Мальчик, ты к Михаилу Евгеньевичу? Проходи, он скоро будет.
— Нет, я здесь подожду, — нехотя запротестовал Вовка.
— Да ты проходи. У него диета, и через десять минут ему обедать.
Вовка помялся и осторожно, как на льдину, шагнул в квартиру поэта. Маленький коридорчик, наполовину занятый старым округлым холодильником «Саратов» с пожелтевшей хлебницей наверху, показался ему темным и тесным. Вовка бросился снимать ботинки. Старушка сначала попыталась остановить его, а потом подала тапочки.
— Возьми мои, тебе будут хороши, и подожди Михаила Евгеньевича в его комнате, — сказала она и проводила Вовку.
Он огляделся. Здесь, как в библиотеке, на стеллажах, в книжном шкафу, на подоконнике стояли, лежали десятки и сотни книг. К окну прижимался старенький коричневый столик на журавлиных ножках, на котором умещалась пишущая машинка и стопка бумажных листочков. Центр комнаты занимал круглый стол под белой нарядной скатертью. Таких громоздких, давно вышедших из моды столов ни у кого из Вовкиных знакомых не было. У стенки, между двумя этажерками, совсем не к месту в этой книжной комнате, возвышалась под голубым покрывалом большая железная кровать.
Вовка нерешительно постоял у дверей, подошел к столику и увидал листок с напечатанным стихотворным текстом. Он скользнул взглядом по нему и как будто затормозил на строчках:
Перечитав
Гайдаровские книжки
И видя в снах
Испанские бои,
Росли для битвы праведной
Мальчишки —
Романтики,
Товарищи мои…
Он снова перечитал отрывок и подумал: «Ведь поэт тоже был мальчишкой и тоже читал книги Гайдара».
В коридоре дрогнул звонок, и Вовка осторожно отошел от столика с машинкой. Потом он услышал громкий голос:
— Мама, мальчик пришел?
— Пришел, ждет. Иди, поешь.
— Да я, мама, по дороге пирожных купил. Готовь чай.
— Какие пирожные, Миша, у тебя ж диета, — услышал Вовка возмущение старушки.
— Мама, не заводись, — весело ответил поэт, — приготовь чай, а я пойду с мальчиком поговорю.
Вовка, представляя поэта, вспоминал висевшие в школе портреты писателей. Его очень удивило, что у поэта не было бороды. И вообще он был какой-то обычный. Полный, невысокого роста.
— Ну, здравствуй. Так где твои стихи? Ну-ка, покажи, что создал? — пожал он руку Вовке.
— Нет… Я ничего… Ничего не создавал. Я хотел, чтобы вы нам речовку написали и пришли к нам на сбор. Ну понимаете… — и Вовка рассказал поэту о предстоящем пионерском сборе.
— Ах, речовка, речовка, — задумался Михаил Евгеньевич, и Вовка заметил, как сосредоточенно собрались морщинки вокруг его глаз и углубилась складка на переносице. Вдруг Михаил Евгеньевич разулыбался, и морщинки лучиками разбежались по его лицу. — А я ведь тоже пионером был и все отлично помню. Еще в тридцатые годы ходили на сборы, и каждый отряд, как марш, свои бравые стихи рассказывал, — по-мальчишески увлеченно вспоминал поэт. — Помню, готовили мы сбор, и пионеры сами решили свою речовку написать. Вот мне и поручили… Хочешь, я тебе фотографии покажу? Чуток подожди.
Он открыл нижние дверцы серванта и стал вытаскивать книги, журналы, тетради, пока не добрался до альбома, выцветший голубой бархат которого потерся, и из уголков торчал желтый расслоившийся картон.
— Ну-ка, посмотри, — открыл он страницу с фотографиями, на которых были изображены пионеры в белых блузках с галстуками, прихваченными значками. Мальчишки — в высоких пилотках, девчонки — с короткими, набок зачесанными волосами.
— А это я, — показал он на крепкого пацана с полевой сумкой через плечо. — Всегда с блокнотом и карандашом ходил и вечно что-нибудь сочинял. У меня тогда и прозвище было — Острый Карандаш. По-другому не называли. Ни Миша, ни Николаев, ни просто Карандаш, а именно Острый Карандаш. Во все стенгазеты стихи писал. Хотя… какие это были стихи? А вот речовку!.. Ох, и тяжело мне с ней пришлось. Даже на совете отряда, — вдруг рассмеялся поэт, — прорабатывали, так долго писал. Хотелось, чтобы она гремела, как барабан, трубила, как горн. Ночами уснуть не мог, под одеялом с фонариком писал. И все-таки сделал. Там еще, помню, такие слова были:
Барабан, греми в дорогу,
Горн, труби, играй тревогу,
Флаг, гори! Вперед, отряд!
Не сдадим мы баррикад.
После этого, представляешь, меня Красным Карандашом стали называть. Здорово, Красный Карандаш! Ох, и время было.
— А вы на фронте воевали? — осторожно спросил Вовка.
— Воевал. Я фронтовик образца сорок третьего года. Да ладно об этом. Сейчас будем чай пить. Ты эклеры любишь?! — улыбнулся он.
— Да-а, — кивнул Вовка.
— А мне мама и печень не разрешают. А сейчас с чем вы на пионерскую линейку выходите? Есть у вас какие-нибудь стихи?
— Есть, — грустно сказал Вовка, — нам их еще в четвертом классе Марина Николаевна подобрала.
— Ну-ка, давай прочти.
— Здесь? — густо покраснел Вовка. — Я плохо рассказываю. Я вам лучше на листочке напишу.
— А ты не стесняйся, — улыбнулся поэт, — я свои тоже плохо читаю. Ты представь, что маршируешь, а я, как барабанщик, — перешел на шепот поэт, — тебе в такт постучу. Ну, давай! — ладонями по столу он начал выстукивать марш. — Та-тара-та. Та-тара-та. Ну, давай!
Раз, два, три, четыре,
Три, четыре, раз, два, —
начал Вовка и с каждым словом чувствовал, как пропадает его робость:
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд.
Кто не весел? Нет таких!
Мы — веселый коллектив.
Дружно в ногу мы идем,
Песню звонкую поем.
— Что ж, неплохо, — улыбнулся Михаил Евгеньевич.
— Да не очень. И рифма плохая.
— Молодец, чувствуешь. А к какому сроку надо?
— Сбор через месяц.
— Знаешь что? — лицо поэта стало серьезным. — А давай попробуем вместе. Чувство ритма у тебя есть, это я по стихам слышал, и рифму ты видишь. Мне через несколько дней рукопись в издательство сдавать. Ночами сидеть приходится. Давай начни писать, а я посмотрю, и вместе доработаем. И ты не бойся, если сразу не получится. Не бросай. Я свои тоже по нескольку раз переделываю. За месяц мы с тобой такую речовку сочиним! Ты только представь себя на месте Талалихина в ночном небе над Москвой. Шесть раз ты атаковал фашистский бомбардировщик. Боеприпасов нет, кончились. А «хейнкель» уходит с полным брюхом бомб, чтобы сбросить их на твой дом, дом твоего друга, похоронить под обломками твоих родных. Ты хочешь пропеллером обрубить его хвост, но он, огрызаясь, ранит твой самолет, тебя. Но ты должен его сбить, должен спасти тех, кому предназначены бомбы. Вот и ты как будто должен пойти на таран со всем, что нам мешает: ленью, трусостью, предательством, равнодушием, разгильдяйством. И ты увидишь, что рифма придет сама, строчки займут свое место, и получится настоящая речовка, которая тебя в бой поведет. А теперь скажи свой телефон, — и, записав его в малюсенькую книжку, Михаил Евгеньевич улыбнулся: — Телефон я твой знаю, через недельку-полторы позвоню. Ты, главное, пиши, что чувствуешь, а подработать помогу.