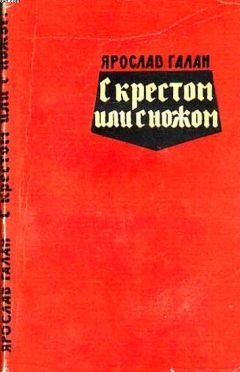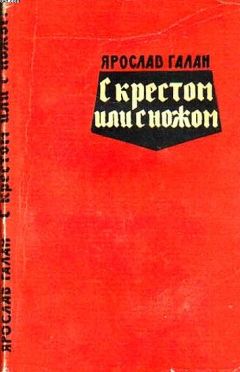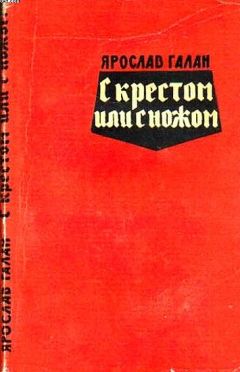Тот сразу спрыгнул со стола, сделался серьезным и несколько раз повторил:
— Слушаю... Слушаю... Так... Так... Будет сделано...— и заметался по кабинету. Он быстро выхватил из шкафа папку с делами студентов и, уже не глядя на пани Надийку, быстро вышел.
В кабинет ректора университета Козакевича Каблак входил уже чеканным шагом, слегка наклонив вперед голову, замкнутый, исполнительный служака, обученный заранее отгадывать, а подчас и предупреждать вопросы куратора.
Поклонившись ректору, седому красивому человеку в очках с золотыми ободками, Каблак скользнул взглядом по сидящему в мягком кресле наискосок от ректора капитану Журженко. Появление здесь военного насторожило Каблака, но он сразу различил на его черных петлицах значки военно-инженерных войск и успокоился. Он еще раз поклонился и вопросительно посмотрел на ректора.
Ректор, уставший от потока посетителей, поднял кверху склоненное над бумагами моложавое еще лицо.
— Скажите. Дмитро Орестович,— спросил он усталым голосом,— кто вам дал право самолично отменять прием Инанны Ставничей?
Каблак переменился в лице, но, овладевая собой, переспросил:
— Кого-кого?
— Вы принесли дело о приеме Ставничей? Дайте мне его.— Ректор полистал тоненькую папку.— Вот этой девушки! Посмотрите фотографию! — И ректор протянул ему через стол снимок, приложенный к заявлению.
Каблак долго всматривался в фото, выгадывая время, вертел его в руках, а потом, пожимая плечами, заявил:
— Первый раз вижу! — и тут же сообразил, что совершил непоправимую ошибку: ведь первая же очная ставка с этой поповной уличит его во лжи, спутает все его козыри! Надо было не переспрашивать «кого-кого?», не отпираться при виде фото, а рубануть прямо: дочь униатского священника, социально чуждый элемент, не для таких, мол, паразиток Советская власть университет открыла! И попробуй докажи тогда, что Дмитро не прав. Наоборот, как бы сразу взлетели его шансы. Ведь они так любят сверхбдительных людей!
Ректор передал фото капитану и сказал:
— Странная история!
— Простите. Иван Иванович,— вмешался Журженко,— разрешите вопрос.— И. не дожидаясь согласия ректора, с ходу спросил: — Ваша фамилия Каблак? Не так ли? Дмитро Каблак?
— Ну, допустим. Каблак... А что? — протянул секретарь приемной комиссии.
Журженко оглядел приметные гольфы Каблака, его ноги в узорчатых чулках, его напомаженную голову с хитрыми, пронырливыми глазами и остро спросил:
— Зачем вы нас обманываете? Какая польза вам от этого? Ведь вы отнюдь не в первый раз видите эту девушку!
Деланно улыбаясь, Каблак развел руками и сказал:
— Нет, я вижу ее в п е р в ы е... А собственно говоря. какое право вы...
— Но ведь это вы, именно в ы отсоветовали И ванне Ставничей идти к ректору. Вы запугивали се ссылкой в Сибирь и белыми медведями. Знаете, как это называется?
Каблак оскорбление пожал плечами.
— Пане... то есть... товарищу ректор... Это чистый наговор. Это нарушение нашей конституции...
Журженко возмутился еще сильнее. Юля Цимбалистая в самых мельчайших подробностях рассказала ему услышанную ею от Иванны историю отказа в приеме ее в университет.
— Наговор? — воскликнул капитан.— Скажите... вы... А принятый вами в университет Зенон Верхола, сын владельца маслобойки из Нижних Перетоков, тоже наговор?
Каблак побледнел. Он пытался оправдаться, но у него перехватило дыхание, и он только молча размахивал своей волосатой рукой. Ректор кивком головы остановил взволнованного капитана и спокойно решил:
— Хорошо, Дмитро Орестович! Идите! С этим вопросом мы еще разберемся...
Непринужденной походкой, стараясь выглядеть как можно спокойнее, Каблак покинул кабинет. Едва захлопнулась за ним обитая клеенкой дверь, как капитан воскликнул:
— Ну видите, какая бестия?! Зачем вы держите в университете таких людей?
— Тем более неосмотрительно было с вашей стороны выкладывать на стол все козыри! — поучительно, как ребенку, сказал ректор, укоризненно кивая седой головой.— Ну зачем вы кричали на него? Для чего фамилию Верхолы называли? Разве недостаточно, что вы мне одному рассказали об этом типе? Ай-ай-ай! Мы бы сами осторожно разобрались во всем.
Уже осознав свою ошибку, но из ложного стыда не сразу сознавшись в пей. Журженко попытался возражать:
— Если вы мне не верите, вызовите сюда Ставничую. Напишите ей несколько слов. Хотите, я сам передам ей ваш вызов?..
— Не волнуйтесь, капитан! Что будет нужно — сделаем,— заметно нервничая, сказал ректор, утомленный настойчивостью военного.
Козакевич не любил, когда посторонние вмешивались в дела руководимого им университета. Он поднялся, протягивая капитану руку и давая понять, что аудиенция окончена.
Капитан Журженко, разгоряченный перепалкой, проходя по заполненным студентами коридорам университета к выходу, не заметил, что поджидавший его за колонной Каблак указал на него сухощавому черномазому студенту в лыжной шапке-каскетке, и тот проводил капитана пристальным, запоминающим взглядом. Это и был тот самый Зенон Верхола, друг террориста Лемика, о котором рассказала ненароком Журженко и Зубарю Юля Цимбалистая.
В июне 1933 года на берлинской конференции украинские националисты поставили своей задачей совершать террористические акты против представителей Советского Союза. Вот тогда-то приятель Верхолы — Лемик, такой же, как и он, гимназист-недоучка, проник в дом советско-го консульства по улице Набеляка во Львове, одним выстрелом из пистолета убил сошедшего к нему со второго этажа секретаря консульства Андрея Майлова, тяжело ранил сторожа консульства, добродушного седого старичка. Эхо этих двух выстрелов отозвалось на судьбе Верхолы. Он бежал в Данциг под опоку шефа данцигского отделения ОУН Андрея Федины и прожил там свыше пяти лет. Вместе с гитлеровскими головорезами в 1939 году он нападал на польскую почту в Данцигс, убивал и калечил мирных почтовых служащих, потом, 1 сентября 1939 года, в арьергарде гитлеровских войск ворвался в Польшу, дошел с ними до окраин Львова, а когда они откатились за Сан. по заданию гитлеровской военной разведки остался во Львове. И было бы все хорошо в его тайной и явной судьбе, не появись сейчас в университете дотошный крикун-капитан, озабоченный судьбой этой «квочки» — тулиголовской поповны. Надо было действовать, и действовать очень быстро!
Шагавший в это время по Львову Журженко обдумывал события сегодняшнего дня, который начался так удачно. Если бы не его горячность и неосторожная обмолвка у ректора о Всрхоле, все можно было бы считать отличным. Опрометчиво повел он себя.
По улицам шли прохожие, по гранитным торцам мостовой то/и дело проезжали экипажи и пролетки, изредка позванивая, проносился маленький львовский трамвайчик. Отстраняясь от уличного шума, Журженко мучительно искал выхода, как вдруг услышал, что его кто-то окликает.
— Иване Тихоновичу! Иване Тихоновичу! — донеслось из вылета боковой улочки Богуславского.
Журженко оглянулся и увидел наполовину вылезшего из люка канализации знакомого бригадира Водоканалтреста Голуба. Он приветственно махал ему засаленной кепкой. За те двадцать месяцев, что Журженко, присланный сюда, во Львов, сразу же после его освобождения, проработал в тресте, он успел подружиться с этим милым стариком, бывалым подпольщиком. Голуб воевал здесь за Советскую власть начиная с конца двадцатых годов. Он много путешествовал по камерам разных тюрем, пока не увидел на Лычакове первых красноармейцев. Ему были хорошо знакомы Луцк и Дрогобычская тюрьма, Вронки и застенок в Станиславе, даже за сложенными из «плачущего» камня стенами старинной Свентокшижской тюрьмы на Келещизне довелось посидеть Голубу.
Голуб помогал Журженко разбираться в местной обстановке, рассказывал ему о скрытых, перекрасившихся националистах, людях с «двойным дном», которые лебезили перед работниками, приехавшими с Востока, а сами поглядывали в сторону Сана, за которым стояли в ожидании своего часа немецкие танки. Вот почему, увидев сейчас Голуба, вылезающего в его обычной
брезентовой куртке из подземного царства, где он чувствовал себя как дома, Журженко несказанно обрадовался и пошел навстречу бригадиру. Он подошел к люку, огороженному треногой с красным кругом, и, пожимая руку старика, сказал: