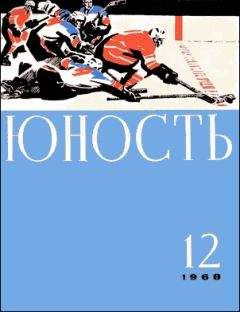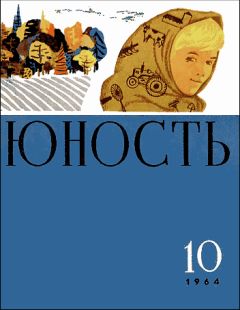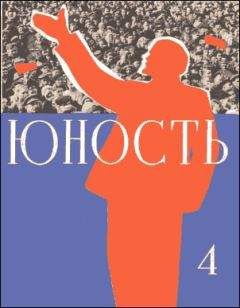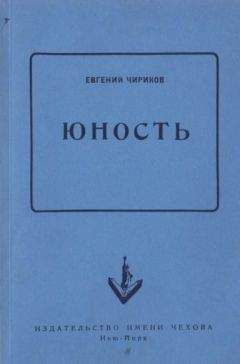он уступчив, дружелюбен, не больно-то общителен. В баскетбол он не играл, на спортплощадке появлялся редко. И часто после уроков исчезал куда-то на много часов и появлялся только вечером. Его спрашивали:
— Где был?
Он отвечал вяло:
— К Султан-Санджару ходил.
— Чего там делал?
— Да так… Гулял просто.
Ребята ухмылялись. Никого из них особенно не интересовала эта огромная историческая развалина. Все они были там по разу в порядке обязательной экскурсии, и никому в голову не приходило таскаться туда по собственной воле в драгоценное внеурочное время.
Вот и сегодня к вечеру он отправился в район раскопок. Он шел пешком километров шесть, пока не добрался до ворот старого Мерва. Археологи уже не работали. Изрытая пепельная земля наливалась быстрым и непрочным румянцем вечереющего солнца. Мальчику стало грустно оттого, что археологов нет. Кто его знает, зачем он ходил сюда! Может, из-за них и ходил. Они уже не удивлялись ему и поручали ему всякие мелкие работы. Иногда он копал вместе с рабочими, иногда таскал из лагеря воду в легких алюминиевых ведрах, а однажды его допустили в конюшню, и он присутствовал при обработке материала. Археологи как бы его и не замечали. Разговаривали с ним мало, а все же привыкли к нему и уже обращали внимание на его отсутствие. Они сажали его с собой есть, и это была какая-то радостная еда, гораздо более радостная, чем в детдоме (хотя кормили в детдоме и калорийнее, и сытнее). Он с наслаждением слушал их разговоры о людях и предметах, ему вовсе не знакомых, их шутки и прозвища, и многочисленные розыгрыши, и даже иногда резкие и грубые на вид перебранки, которые быстро и беззлобно затухали. Каля знал, что такое злость, и боялся злости, и ему нравились эти незлые, говорливые и работящие люди.
Но особенно ему нравился профессор. Он был прямо-таки поражен, когда впервые увидел профессора. Профессор медленно шел по земле древнего Мерва, американский тропический шлем грозно облегал его крупную голову, белый, прекрасно отутюженный костюм сверкал на солнце. Профессор энергично помахивал над своей головой зонтиком на тонкой гнутой трости, что-то быстро и громко говорил, и мальчик со странным изумлением слушал эту речь, этот сильный баритон, слова, произносимые свободно и властно, чуть округленные легкой картавостью.
Мальчика, правда, удивило, что этот человек потом сел на корточки и долго копался в земле и что-то говорил другому, молодому человеку, а тот смел спорить с ним. Мальчик с неприязнью посмотрел на спорщика, но потом он увидел, что профессор не обиделся, и успокоился. Его удивило, что профессор обедал вместе со всеми, прямо в поле, так же, как все остальные, пил, обжигаясь, зеленый чай и ел постную каурму, вяленое баранье мясо. Профессор заметил мальчика, пристально на него глядящего, и мимоходом спросил его:
— Ты что, рабочий?
Каля замялся, не знал, как ответить.
— Да нет, он сочувствующий, — сказал кто-то из археологов. — Детдомовский, из Байрам-Али.
Мальчик думал, что профессор прогонит его: археологи не любили, когда рядом торчали и глазели на работу посторонние, но профессор промолчал.
Вновь мальчик увидел профессора в воскресенье, в музее (в конюшне), где были собраны различные черепки, и ведра, и какие-то кости, и намогильные камни, и еще всякие вещи. В тот день профессор читал лекцию для молодежи о прошлом этого края. Профессор говорил о различных племенах, здесь живших, о том, что все эти черепушки помогают нам воссоздать картину древнего общества и его культуры и что это нужно не просто так, для баловства или для чистой науки, а вроде бы и для сегодняшней жизни, чтобы человек представлял себе историю и, постигая прошлое, двигался к будущему. Профессор много еще говорил о древних гузах, то есть туркменах, какие у них были привычки, обряды и нравы, и про их строй, и про их семьи, и даже про вино, которое они пили. И мальчику почему-то стало очень жаль, что они так бедно и плохо жили, и ни в чем толком не смыслили, и верили каким-то дурацким богам, и спали в каких-то домах без окон, похуже нынешних времянок, не то что без газа, а даже и без керосина. И еще ему было жаль их потому, что вот они копошились и копошились и с кем-то тягали права да спорили и воевали, а в результате остались одни головешки да кувшины, ни на что не годные, да надмогильные плиты со стершимися буквами… И мальчик вдруг впервые подумал с изумлением и тоской о том, что это в конце концов происходит не с одними только древними гузами. Это происходит со всеми… И, может быть, даже с ним. Это было невозможно. Он улыбнулся от нелепости и печальной странности этой мысли. Он знал, что это так с другими, но не с ним… С ним этого не может быть, потому что как же так, чтобы его не было, когда он есть и живет, и дышит, и смотрит, и должен дышать, жить и смотреть — всегда.
Но профессор начал говорить о Султан-Санджаре, и мальчик отвлекся от своих мыслей. Профессор сказал о том, что был такой султан Санджар, очень жестокий, сильный, все трепетали перед ним и подчинялись. И был какой-то архитектор, молодой парень из Астыза. И вот он по велению Султан-Санджара начал строить эту громадину. И когда султан помер, его туда и поместили. Ну, умер и умер, и все его забыли, вроде бы никто его не боялся и не страдал от него… Те, которые от него погибли, и знать не знали о Султан-Санджаре, а живые своими делами занимались — только помянут этого султана нехорошим словом, да и все. А мавзолей стоит. Красота необыкновенная. Вот уже и архитектор умер, и сын его, и династия Санджаров кончилась, а мавзолей стоит. Вот уже и века прошли, и уже могилу этого архитектора не разыщешь, да и фамилию его забыли, знают только, что звали его Мухаммед, а памятник стоит. Человека, значит, и в помине нет, а то, что он придумал и совершил, над чем старался, не гибнет.
Эта мысль приободрила мальчика, и он решил, что ему надо будет тоже что-нибудь такое сделать. Но он еще точно не знал что́. Это надо было обдумать.
На другой день он пошел к мавзолею. С тех пор он стал бывать там очень часто…
И сегодня пешком, прямо из детдома, он отправился туда. Около мавзолея всюду был набросан кирпич, торчали какие-то деревяшки, сторожа не было, реставраторов тоже: они работали