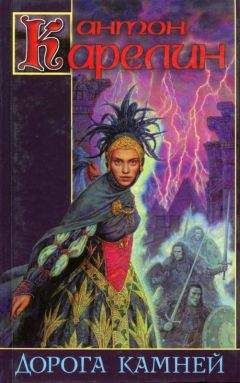— Серёжа! — Верка открыла окно и махала ему рукой.— Тебя мама зовёт.
— Зачем? — Карысю не хотелось заходить в дом.
— Раз зовёт — надо идти, а не спрашивать. Ясно?
И у Карыся окончательно испортилось настроение. Он выпустил из рук травинку, вздохнул и тихо потопал домой, ничего хорошего для себя не ожидая.
— Серёжа,— сказала мать, как только он переступил порог,— будь добр, сбегай к бабушке и попроси у неё аралиевую настойку... Запомнишь?
— Да.— Карысь заметно повеселел.
— Повтори-ка.
— Ар-ра-иую.
— Ну вот. Ара-лие-вую. Аралиевую.
— Ага.
— Только быстро.— Мать поправила очки и строго посмотрела на Карыся: — Нигде не задерживайся.
— Я быстро. Сразу возьму и побегу домой.
Бабушка с дедом жили на Выселках. К ним надо было бежать вначале но деревне, потом через деревянный мосток, мимо берёзового колка, потом перевалить большак, пробежать ещё вдоль Ванькиной протоки — и вот он, бабушкин дом.
Крыт бабушкин дом пластами, труба не железная, а из кирпича и обмазана глиной, над крышей ажио три скворечни на длинных шестах висят. Двор у бабушкиного дома большой, под соломой, и входить в него надо не через калитку, а через ворота. А там, под соломенной крышей, ещё много разных крыш, и под ними стоят баня, стайка, теплушка, казёнка, сени. Все эти домики тёмные, с маленькими оконцами и низкими потолками из берёзовых плах. Вечерами жутковато в бабушкином дворе, жутковато в сенях и казёнке: свет в Выселки никак не проведут и бабушка экономит керосин. Зато у бабушки вкусные пироги, а зимою пельмени и сырники.
— Ты чё бежишь? — на мостке стояли Васька и Петька Паньшин с удочками. И потому, что Карысь бежал не просто так, а бежал по поручению, он заважничал и солидно ответил:
— Меня быстро послали.
— На Выселки?
— Ага.
— А в колке вчера медведя видели, — равнодушно сообщает Васька. — Бо-ольшой медведь.
— Ври?!
— Больно охота врать. Он завсегда там весной берёзы гнёт.
— Зачем? — Карысь с недоверчивым удивлением смотрит на Ваську.
— А ты не знаешь?
— Нет.
— Эх ты, Кар-рысь.— Васька презрительно сплёвывает в воду.— А мёд он на чём таскает?
— Мёд?
— Нет, капусту квашеную.
— На чём, Вась?
— На чём! — Васькино лицо — сплошное презрение, и лишь из особого расположения к Карысю он говорит: — На коромысле, вот на чём. Ему мёда знаешь сколько надо? Он после зимы оголодает, так и человека готов слопать.
— Медведи человеков не едят.
— Они мёд едят, а человеками закусывают. Ну ладно, не мешай ловить.
Карысь топчется на мостке, искоса поглядывает в сторону колка, и ему совсем не хочется бежать к бабушке за настойкой.
— Ва-ась, — тянет Карысь,— а сегодня в колке чё?
— Не знаю. Петька, у тебя же клюёт!
Петька Паньшин сильно рвёт удочку на себя, чебак взлетает высоко в небо, ярко вспыхивает от солнца и медленно падает в воду.
— Сорвался, — смущённо сообщает Петька, но Васька даже не взглянул на него. Низко склонив большую, с двумя макушками голову, Петька наживляет червя и вновь удит.
— Ладно, — вздыхает Карысь, — я пошёл. Мне быстро надо.
— Иди, — равнодушно кивает Васька, — если кого увидишь, привет передавай.
— Кого? — Мурашки ползут по спине у Карыся.
— Ну, медведя там или ещё кого...
Карысь бежит по тропинке и часто оглядывается. Пока Ваську и Петьку Паньшина видно на мостке, он ещё крепится, прыгает на одной ноге и вообще всем видом показывает, что ничего на свете не боится. Но вот мосток скрылся за поворотом, и Карысь притих. Он идёт всё тише и тише, до боли в глазах всматриваясь в колок. Берёзки стоят ещё голые, и видно далеко, и там, далеко, неожиданно что-то темнеет. Карысь замер и перестал дышать. Ещё мгновение, и он бы бросился бежать назад, но в это время из-за колка вышел Баян Киле. Карысь облегчённо вздохнул и, уже не глядя на колок, припустил во весь дух по тропинке.
— Эй, куда так бежишь? — удивлённо остановился Баян Киле, но Карысь лишь рукой махнул и пулей пролетел мимо. Ему важно было добежать до Ваньки ной протоки прежде, чем Баян Киле скроется за поворотом к мостку.
3
А солнце, летнее уже солнце, высоко в небо поднялось и припекало нешуточно, и Карысь взопрел изрядно, пока перевалил большак, и облегчённо перевёл дух, завидев Ванькину протоку. Он перевёл дух и счастливо засмеялся, потому что увидел деда. По удивительно гладкой, без единого пятнышка и морщинки протоке медленно плыла узкая и длинная лодка. Дед сидел в лодке и потихоньку грёб веслом: с одной стороны лодки, с другой стороны, с одной стороны, с... Каждый раз, когда весло поднималось в воздух, с него опадали маленькие брызги, которых нельзя было бы видеть, если бы не вспыхивали они на солнце радужно и светло. И поражённо смотрел Карысь, не в силах понять, как это в таких маленьких капельках отражается такое большое солнце? И почему в небе солнце одно, а капелек много, и в каждой капельке солнце? И почему ещё вслед за лодкой разбегаются ровные, тоненькие волны, и куда они деваются, когда прибегают к берегу? И почему, наконец, в протоке так хорошо и красиво отражается лодка, дед, весло, прошлогодняя береговая осока и три кудрявых берёзки на крохотном островке? Карысь совершенно забыл о недавнем своём страхе, о материном поручении, о Ваське и Петьке и даже о себе Карысь забыл. С удивлённым восторгом смотрел он вокруг и только теперь замечал, что в природе творится какое-то чудо, о котором он совсем не знал. Среди соломенно-жёлтой осоки виднелись первые крохотные стрелки молодых побегов, толстые, жирные серёжки на берёзах медленно разворачивались за солнцем, и в этом таинственном движении уже угадывались будущие листья. Чуть пахнул ветерок из-за сопок, и над ветками лещины набухло легчайшее облачко золотой пыльцы, качнулись на ольхе цветущие серёжки, и с одной из них грузно взлетела пчела. Как-то боком отвалив от ольхи, она медленно пролетела мимо Карыся, а на смену ей тут же появилась новая пчёлка и деловито засновала по пахучим серёжкам, собирая с них едва приметную глазу пыльцу. Дальше, ближе к бабушкиному дому, склонились над водою ивы, украшенные мелкими атласными серёжками. И иод этими ивами, всё так же оставляя за собою тонкие волны, плыл теперь дед. А выше деда и выше ив, в далёких холодных распадках и ущельях, серебристо белел снег. Синее небо, отражённое в воде, и вода, отражённая в небе, белый снег в распадках, тяжёлая коричнева берёзовых серёжек, розово-сиреневое половодье рододендрона на склонах сопок и но хребтам, зелёная ярость тайги за Амуром — всё это так перемешалось, даёт столько света, теней, тонов и полутонов, всё это так первозданно ликует и радуется солнцу, пчёлам, стрижам под высоким берегом, всему живому на земле и са мой земле, что у Карыся начинает тихо кружиться голова и рябит в глазах от невозможности видеть всё это чудо за раз. Его сердце полнится изумлением и восторгом: глубокий простор, затопленный солнцем, прозрачные струи воздуха над землёй, в каждой ямке и мочажинке, заполненных водой, опрокинутый мир небес, песня без начала и конца, что льётся с лазурной вышины, радостное и торопливое чьё-то щебетание плотно окружают Карыся, зовут к себе, в неведомое, в нераспознанное человеком до конца. Карысь жмурится и даже прикрывает глаза ладонями, но мир ликующих красок, мир теней и щебета остаётся с ним, потому что и сам он частица этого мира.
— Деда-а-а!..— восторженно закричал Карысь и долго слушал, как эхо, дробясь и повторяя себя, раскатывается над протокой и тихо умирает там, где начинаются широкие плёсы.
Часть вторая РАННИЕ ЖУРАВЛИ
1
В доме пусто и неуютно, лишь несколько чемоданов стоят посреди горницы да валяются на полу какие-то тряпки и бумаги, никому не нужные и забытые. Три кровати, на которых спят отец с матерью, Вера и Серёжа, сдвинуты в один угол и завалены одеялами и подушками. Рядом стоит табуретка с дыркой на том месте, где был сучок. Сучок вначале долго плакал, как говорил отец, а потом высох и вывалился. Между табуреткой и кроватями, прямо на полу, сидит Вера. Лицо и глаза у неё красные от слёз, а она всё ещё плачет и вытирает слёзы белым школьным фартуком, отчего он постепенно становится не белым.
Со стопкой чистого белья в горницу входит мать. Увидев Веру, она хмурится и просит вздрагивающим голосом:
— Вера, прекрати, пожалуйста. На тебя смотрит Серёжа, и вообще...
— Я не смотрю,— поспешно сообщает Серёжа.
— Да-а, чего ему на меня смотреть? — пуще прежнего завсхлипывала Вера.— Он-то с вами поедет, а я здесь остаюсь.
Мать устало опускается на табуретку и кладёт бельё на колени. Под глазами у неё тёмные круги, кожа «нехорошая», как говорит бабушка, и вообще вид у матери нездоровый, и Серёжа жалеет её.