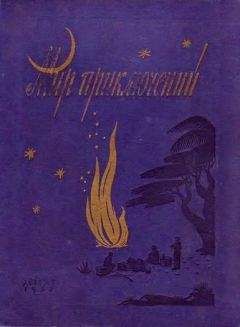— Мы — это «Молодая Франция». Все те, кто так или иначе разделяют взгляды романтиков. А если тебе и это непонятно, могу разъяснить: романтики встали на защиту свободы искусства. В политике воюют друг с другом роялисты и либералы, в искусстве — романтики и классики. Пока бои происходят не на баррикадах, а в театре, но придёт время… — И Ксавье многозначительно замолк.
— А что скажет господин Гюго?
— Гюго?! Да он не только одобряет, он ещё и поможет нам организовать всё так, как мы задумали. Ведь это он купил билеты для студентов, писателей, поэтов, художников, музыкантов и типографских рабочих. Разве у нас достало бы средств для того, чтобы явиться всем в театр!
Присутствовавшим было хорошо известно о непримиримой вражде представителей классического направления в искусстве, поддерживаемого королём и двором, и представителей искусства романтического. В отличие от классиков, романтики типа Гюго воспевали чувства непосредственные, не связанные никакими строгими законами драматической формы. Пьесы Гюго, стоявшего во главе романтического течения, давали актёрам простор для непосредственного выражения своих чувств: гнева, восторга, возмущения. Не было лучшей трибуны, чем сцена, откуда до зрителей могли доноситься слова, направленные против тиранов и их власти, призывающие к свободе и равенству. И актёры таким образом становились — иногда даже поневоле — выразителями чувств и самих зрителей.
Притаившись за занавеской и затаив дыхание, Катрин слушала слова брата. Щёки её разрумянились, глаза блестели. «Вот бы посмотреть самой, хоть в щёлочку, на этот необыкновенный спектакль! Да куда там! Разве меня пустят в театр! И взрослым-то театр не по карману!» — так думала Катрин.
А Ксавье продолжал:
— Мы договорились с директором театра и с театральными капельдинерами, что заполним своими людьми все последние ряды, все ступеньки, все пустые уголки зала. Таким образом, спектакль будет принадлежать нам, «романтикам», и представители «классики» не смогут его сорвать.
Когда все стали прощаться, Катрин, как всегда стремительно, ворвалась в комнату и бросилась к Жаку:
— Мосье Жак, где сейчас Мишель?
— Он спит, да и тебе, малютка, давно пора спать!
— Вот ещё! — фыркнула Катрин и, сдержав себя, попросила уже другим тоном: — Скажите Мишелю, что он мне нужен…
— Не худо бы добавить: «пожалуйста», — ласково пожурил её Жак. Он всегда огорчался, что Катрин растёт без женского присмотра, и поэтому у неё резкие манеры и язык.
Катрин сконфуженно опустила голову.
— А Мишелю я скажу, что он тебе нужен, только, не взыщи, не сегодня, а завтра утром, перед его уходом в лицей…
* * *
В день премьеры «Эрнани», перед спектаклем, на чердаке дядюшки Франсуа волновалась молодёжь. В театр студенты — друзья Ксавье — шли гурьбой. Все они принимали горячее участие в сборах на спектакль.
Расходы на яркий жилет, который пришлось взять напрокат, дядюшка Франсуа счёл нужным принять на себя. «Ведь ничем иным участвовать в этом важном деле я не могу», — категорически заявил он.
— Ты расскажешь мне обо всём так подробно, чтобы я как будто своими глазами увидела и зал, и публику, и спектакль, — шепнула Катрин на прощание Ксавье.
Ксавье обнял сестру, поцеловал в обе щеки и тоже шёпотом пообещал:
— Расскажу, не забуду ни одной подробности!
Но как ни волновал его предстоящий спектакль-демонстрация, в его ушах стояли горькие слова, брошенные Люсиль, которая случайно оказалась на чердаке в день сборов в театр.
— Я и не знала, — сказала она, — что ты придаёшь такое значение театру! Если в театре только «интриги, подкуп, протекция», можно ли от него ждать, что он зажжёт сердца любовью к свободе?
Ксавье онемел и не нашёлся, что сказать. А Люсиль, уже прощаясь, добавила:
— Вот если бы ты пригласил меня в театр, вопреки всем существующим правилам, наперекор воле отца, матери и всех благомыслящих людей, — это, пожалуй, была бы тоже неплохая демонстрация.
Она очаровательно улыбнулась и убежала, не дожидаясь ответа совершенно огорошенного Ксавье.
Вальдек де Воклер тоже присутствовал на спектакле.
О готовящейся демонстрации, задуманной студентами, он узнал заранее в редакции, где был своим человеком.
Но как он ни ожидал увидеть необычайное зрелище, зрительный зал его поразил. Никогда до того, ни на спектаклях самых модных гастролёров, ни на тех, которые посещал король и его свита, в зале не бывало столько народа. В рядах студентов там и сям мелькали цветные, яркие жилеты. Но среди всех Вальдек сразу отметил стройную фигуру известного писателя Теофиля Готье. Ещё совсем молодой и наиболее рьяный из романтиков, цветом своего жилета он захотел бросить вызов «филистерам»[18] и их «унылой академической серости».
В креслах и ложах, на скамейках и галерее, на балконе, на ступеньках стояло и сидело столько людей, что яблоку было негде упасть.
Вальдек, одетый, как диктовали мода и этикет — цветные панталоны, чёрный сюртук и накрахмаленный галстук, — тотчас отметил разницу в одежде публики, занимавшей ложи и ярусы с одной стороны и партер и раёк — с другой.
Вальдека особенно поразило, что партер и раёк пестрели разнообразием костюмов. Длинноволосые и бородатые молодые люди надели кто шерстяную вязаную куртку, кто испанский плащ, подражая повстанцам Греции[19] или итальянским карбонариям.[20] Вальдек сразу понял, что это друзья и сторонники Гюго.
А «приличные» молодые люди, разделявшие точку зрения «классиков», так же, как Вальдек, надели свой обычный вечерний костюм и заняли ложи и два первых яруса над ложами.
Женщин очень мало. Но вот в ложе появилась какая-то дама лет тридцати, в ярко-красном корсаже, в руке — букет красных гвоздик. «Кажется, ещё минута, — мелькнуло в голове у Воклера, — и она сорвётся со своего места и бросится вниз, в партер, на противников Гюго!»
Взгляды всех обращены на кресло номер четырнадцать во втором ряду, где сидит причина всего этого волнения — сам Виктор Гюго. Говорили, что он пришёл в театр за восемь часов до начала спектакля, чтобы лично удостовериться, как будут впускать в неосвещённый ещё зал его приверженцев — «романтиков».
На улице, вопреки обычной парижской погоде в этот сезон, чрезвычайно холодно. Холодно и в помещении театра, которое не отапливается. У публики, особенно у студентов, которых в зале большинство, носы покраснели, на эспаньолках, усах и баках — оттаявшие капли. Многие топают ногами, то ли от нетерпения, то ли оттого, что обуты легко. Они не предусмотрели того, что неожиданно ударит мороз. И только сам «мэтр» — Виктор Гюго — сидит, расположившись как у себя дома. Его не берёт никакой мороз. Он обложен грелками: грелка в ногах, грелка-муфта на коленях.
У Вальдека даже шевельнулось недоброе чувство против поэта. «Хорошо ему сидеть и ждать лавров, когда ему тепло. А каково бедным студентам и художникам, да особенно тем, в открытых, пёстрых жилетах?»
Весь спектакль Вальдек, не отрываясь, смотрел на сцену. Незаметно для самого себя он увлёкся смелыми словами, которые Эрнани бросал в публику, а вольные возгласы о тиранах, о свободе пронизывали его дрожью. «Вот что значит сила искусства!» — подумал он. Но тут же спохватился и стал с тревогой наблюдать за залом.
Тревога его ещё усилилась, когда из рядов «романтиков» поднялся стройный молодой человек в огненно-красном бархатном жилете (это был Ксавье, которого Вальдек не знал) и повторил вслух реплику Эрнани: «Долой тиранов!» Зал ответил ему одобрительным гулом и рукоплесканиями. Аплодисменты волнами вздымались то к Гюго, то к актёру, игравшему роль Эрнани, то к Ксавье.
В довершение всего сидевший рядом с Вальдеком студент стал неистово аплодировать Ксавье. В руке он держал квадратную картонную карточку ярко-красного цвета. Она мешала ему аплодировать, и он положил её на подлокотник кресла, разделявший его и Воклера. На картонке было напечатано крупными буквами: «ШПАГА, ПРОБУДИСЬ!»
Когда спектакль кончился, зрители шумной толпой бросились к креслу, где сидел Гюго, и вместе с актёрами устроили поэту бурную овацию.
Покидая театр, Вальдек предвкушал, какой успех будут иметь отчёты о спектакле, которые он пошлёт в газеты. А самое главное, как рассказы «очевидца» об Эрнани поднимут его шансы в глазах Жанны.
Прошло всего полтора месяца с того дня, как Люсиль впервые переступила порог дома г-на Пьера. Она делала такие успехи, что старый учитель решил заговорить с её родителями о том, чтобы устроить Люсиль в театр. Но он встретил такое сопротивление с их стороны, что был вынужден отступить. Тут как раз одна из великосветских дам, г-жа де Мурье, обратилась к нему с просьбой подыскать среди его учениц музыкальную особу на должность компаньонки.[21] Г-жу де Мурье непреодолимо влекло к пению и игре на рояле. Ей нужна была компаньонка, которая помогала бы ей коротать время, аккомпанировала бы ей и услаждала бы её слух своим пением.