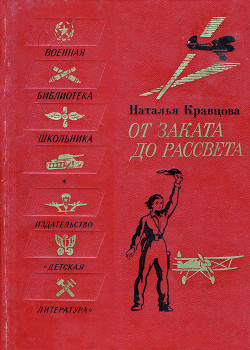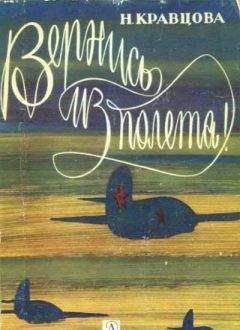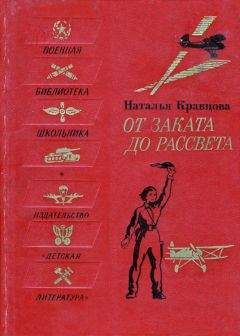Тихо. В траве перекликаются кузнечики.
— Хорошо, а! — говорит Жека, и в ее глазах отражается закат. Она идет рядом со мной, размахивая тонким прутиком, сбивая на ходу травинки.
На землю уже ложится тень, и только верхушки деревьев еще золотятся, да рыжеватые Жекины волосы ярко пламенеют.
— Жека! Жигули! Наша эскадрилья вылетает сегодня первой! — кричит издали Жекин штурман.
— Ладно, еще рано! — отвечает она.
В это время неподалеку слышится тарахтение мотора. На повороте улицы появляются на мотоцикле ребята из соседнего полка. Останавливаются. Жека не может пройти мимо этой техники равнодушно.
— Можно прокатиться? А ну, покажите, как тут управлять.
Ребята охотно объясняют, где и как нажимать.
— Давай? — предлагает она мне.
Мы пробуем по очереди. Сначала ездим на летном поле, где нет никаких препятствий. «Осваиваем» технику. Потом принимаем решение прокатиться вдоль улицы, по станице.
Жека садится за руль, я — сзади верхом. Шум, грохот — весело! Сначала все идет нормально. Но вот Жека разгоняет мотоцикл (надо же порисоваться перед ребятами!). Вдруг из-за угла машина! Жека решает развернуть мотоцикл влево, в переулок. А скорость не убрала. И мотоцикл с большим радиусом разворота скачет через канаву прямо на деревья.
Я успеваю закрыть глаза перед тем, что должно случиться, и чувствую сильный удар: переднее колесо застревает между стволами деревьев. Жека грохается вперед, зацепившись головой за дерево, а я делаю сальто в воздухе и шлепаюсь о землю спиной. Больно, даже дыхание перехватило. Но мы знаем: на нас смотрят. И поднимаемся, улыбаясь, как будто ничего не произошло, как будто именно это мы и собирались сделать.
Ребята бросаются… к мотоциклу. Нет, он цел.
Хочется сесть и отдышаться. Но уже поздно, нужно идти к своим самолетам. Слышно, как тарахтят запущенные моторы. Кое-кто уже выруливает.
Сначала шагаем молча, переживаем случившееся. Жека трогает огромную шишку на лбу. Потом, посмотрев друг на друга, громко хохочем.
Через час мой самолет уже приближался к району, где сосредоточились части противника. Как ни старалась я подойти к цели неслышно, все равно нас поймали. Широкие цепкие лучи. И как раз в тот момент, когда Лида Лошманова, мой штурман, готовилась бомбить. В кабине стало светло. К самолету потянулись снизу оранжево-красные ленты. Три крупнокалиберных пулемета швыряли вверх огненные шары.
Двадцать секунд я должна была вести самолет по прямой, не сворачивая. Всего двадцать секунд… Пах-пах-пах! Пах… Щелкают оранжевые шарики. Их много. Они будто пляшут вокруг самолета, все теснее окружая его.
— Еще немножко… — говорит Лида.
Я послушно веду самолет. Мы с Лидой еще не привыкли друг к другу, присматриваемся. В полете она спокойна, говорит мало, только самое необходимое. Вообще она мне нравится. У нее продолговатое смуглое лицо и умные, немного грустные глаза.
Пах-пах-пах!.. Земля плывет под нами медленно. Очень медленно. Наконец Лида произносит:
— Готово.
Бомбы сброшены. И мне странно, что среди этой пляски шаров мы все еще летим… Стреляют кругом. Я швыряю самолет то вправо, то влево, то вниз. Я уже не понимаю, что я делаю, где земля, а где небо. Вижу только блестящие зеркала прожекторов и огненные зайчики, весело бегущие к самолету.
Но почему луна внизу? Ведь это луна! Я узнаю ее. Немножко на ущербе. Она светила нам всю дорогу… А зеркала в противоположной стороне. Сейчас они вверху. А луна внизу… Значит, самолет в перевернутом положении! Я делаю невообразимый маневр. Сама не понимаю какой. Но все становится на место: луна вверху, зеркала внизу.
Неожиданно рядом с зеркалами несколько ярких вспышек. Взметнулись кверху снопы искр — и лучи погасли. Еще два взрыва. Грохот. Это рвутся бомбы, сброшенные самолетом, который летел следом за нами. Кто-то из девушек выручает меня…
— Наташа, возьми курс пятнадцать градусов, — напоминает Лида.
Да, да, конечно. Я беру курс домой, двигаю ручкой управления: вправо-влево, вперед-назад. Мотор работает, самолет летит. Но все еще не верится, что ничего не произошло.
На земле я выясняю, что это была Жека.
— Так я же знала, что это ты! — говорит она. — Я вылетела почти сразу за тобой.
Она, смеясь, обнимает меня.
— Разве же я дам тебя в обиду!..
Иринка моя, Иринка…
Мы лежим на пригорке, Ира и я.
Горько пахнут степные травы. Отсюда виден край станицы, где укрыты в садах самолеты.
Я лежу не шевелясь. Белые облака плывут по небу, словно льдины по реке. Надо мной у самых глаз — ромашка. Она кажется очень большой на тонком стебле. Я легонько пригибаю ромашку книзу. Потом отпускаю. Она, как живая, кивает головкой.
Мы молчим. Я не вижу Иру, но чувствую, что она неспокойна. Ей хочется что-то сказать. Наконец она садится.
— Я пойду, Наташа.
— Еще рано.
Она смотрит на часы.
— Да, рано… Но я все-таки пойду.
Я провожаю ее глазами, пока она не скрывается между самолетами среди деревьев.
Ира, Иринка, Ириночка! Я знаю, отчего ты волнуешься перед полетами. Ты беспокоишься не о себе. Командир нашей эскадрильи Дина Никулина в госпитале. Она тяжело ранена. За эскадрилью отвечаешь ты. Нужно посылать людей на боевое задание. А это не просто. Особенно для тебя с твоим мягким, деликатным характером. И особенно сейчас, когда в полку почти каждую ночь потери.
На западе вспыхнул закат. Где-то там солнце опускается в Азовское море. А здесь, в станице, верхушки деревьев пылают, будто их кто-то поджег.
Мне вспомнился такой же яркий закат. Первые боевые вылеты. Тогда я летала штурманом. У меня не было постоянного летчика, и мне приходилось часто дежурить по части.
Однажды я собиралась на дежурство. В общежитии было пусто: все ушли на полеты. В то время наш полк летал бомбить переправы на Дону, по которым двигались немецкие войска.
В открытую дверь я вдруг увидела, что в соседней комнате кто-то есть. На койке неподвижно сидела девушка. Ирина! Она тоже не летала: ее самолет был неисправен после аварии.
Я тихонько подошла к ней. Она не шевельнулась. Устремив взгляд куда-то в окно, все смотрела и смотрела в одну точку… Может быть, на красную вишенку, что заглядывала в окно? Или на далекий горизонт, где в поле светлели квадраты ржи? О чем она думала?
Мне всегда нравилась эта скромная, удивительно симпатичная девушка. Ей как-то сразу не повезло, хотя она прекрасно летала. Она чуть не разбилась в Энгельсе в роковую ночь, когда на ее глазах погибли четыре наши девушки. Сама Ирина и ее штурман чудом остались живы. Потом, на фронте, в одном из первых боевых вылетов она повредила на посадке самолет. По натуре очень впечатлительная, она тяжело переживала свои неудачи. И, мне кажется, на какое-то время даже потеряла веру в себя. Впрочем, это чувство неуверенности переживает рано или поздно почти каждый летчик.
Мне хотелось сказать ей что-нибудь хорошее. Но я не находила нужных слов. Просто стояла рядом и молчала. И вдруг спросила:
— Хочешь… я буду с тобой летать, Ирина?
Я спросила ее так, потому что знала: их экипаж собираются разъединить. Она посмотрела на меня странно, как будто сквозь прозрачное стекло, и отвернулась.
— Не знаю. Мне все равно…
Все равно… Сначала я не знала, как это понять. Потом подумала, что, конечно же, ей должно быть все равно. И в конце концов решила, что это значит — она согласна. Согласна! И я тут же бросилась в штаб.
Мысль о том, чтобы летать с Ирой постоянно, пришла ко мне неожиданно, когда я увидела ее одну, печальную и одинокую. Через минуту я уже сидела перед начальником штаба Ракобольской и с решительным видом готовилась начать разговор.
Умные черные глаза, казалось, заранее читали мои мысли. Она чуть-чуть улыбалась, слушая мою просьбу. Конечно, она все понимала: ведь и она сама — штурман и тоже хотела бы летать! Но Раскова назначила ее начальником штаба. Ее, бывшую студентку, не получившую никакого военного образования. Видимо, здесь был учтен не только большой опыт общественной работы в университете, но и организаторский талант.