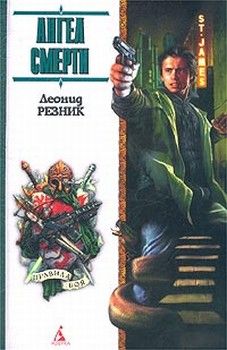Они поглядели друг на друга. Низенький человек так же, как и другие носильщики, был одет в грязные лохмотья, в стоптанные чувяки на босую ногу и с куртаном за спиной, но его скуластое, обожженное солнцем лицо, покрытое рыжей, давно небритой щетиной, его приплюснутый нос и голубенькие глазки резко выделялись среди всех этих горбоносых, бронзовых, черномазых турок и аджарцев и указывали на его несомненное российское происхождение. Микола сейчас же это сообразил и, забыв происшедшую распрю, с удовольствием смотрел на человечка, а тот в свою очередь уставился на Миколу и перестал ворчать.
— Земляки, что ли? — отрывисто спросил он.
— Аль признал? Земляк и есть. То-то и я гляжу, будто обличье-то у тебя российское оказывает. Ан оно и взаправду…
— То-то взаправду! А под ноги-то зачем суешься? И отколе ты взялся? Чего здесь делаешь-то?
— Да чего? Ничего! Глаза вот продаю.
— Ну, брат, это дело плохое. Буркал твоих тут и задаром не возьмут; тут, брат, хлебушко-то горбом надо выколачивать, на манер хорошего буйвола, а глаза — это ни к чему. Хребет здоровый есть? Иди сюда. Нету? Вон пошел. Вот как у нас.
— А что ж, хребет так хребет. Я, землячок и за хребтом не постою. Мне чего ни продать, все равно, только бы хлебом кормили. А хребта не жалко, небось не купленный.
Человек еще раз пристально оглядел Миколу.
— Хребет, это точно, хребет у тебя здоровый, — с завистью сказал он и изо всей силы вытянул Миколу по спине кулаком. — Ишь, спинища-то, чисто печь! Ну, ладно, заболтался я с тобою и про дело забыл. Отойди покамест к сторонке, после потолкуем.
Он взялся было за свою тачку, но в это время у лебедки произошла какая-то заминка, и оба остановились.
Лебедка только что сбросила с гака огромнейший тюк, и носильщики озабоченно суетились около него, очевидно, не зная, что делать с такой громадиной. Все неистово кричали, лезли друг на друга и так энергично жестикулировали, как будто бы собирались вышибить друг у друга зубы. Некоторые пытались прилаживать тюк к собственной спине, но ничего не выходило, и тюк снова грузно шлепался наземь, подымая целый столб едкой пыли. Надсмотрщик выходил из себя и сыпал ругательствами направо и налево; приемщик товара, толстый армянин с бронзовой цепочкой на животе и с карандашом в руках метался по палубе и, сверкая глазами, визгливо уверял всех, что ему ждать некогда и что каждая минута ему стоит пятьдесят рублей, а рабочие этого не понимают и жалеют свою спину, которая ничего не стоит.
— Ишь ты, жирная сатана! — проворчал новый Миколин знакомый, сердито поглядывая на армянина. — Разъелся, в три дня не обойдешь, а небось тоже муша[3] был, сам на пристани тюки ворочал. Подымай сам, коли хочешь!
— Где Верблюд? Позовите его сюда. Эй, Верблюд! Живее! — кричали на палубе.
К толпе носильщиков подошел высокий и тощий грузин с длинной коричневой шеей, на которой выпукло обозначался большой кадык, с длинным горбатым носом, загибавшимся к самому подбородку, и большими, полузакрытыми глазами, над одним из которых был виден глубокий шрам. Это и был тот, которого называли «Верблюдом» и действительно, всей своей нескладной фигурой, длинной шеей с торчащим наружу кадыком, запрокинутой назад головой и мерной поступью он удивительно напоминал это терпеливое, покорное животное, как бы самой природой обреченное на тяжкий труд и вечное рабство. Улыбаясь во весь свой широкий рот и блестя жемчужными зубами, он подошел к тюку и, привычным движением поправив куртан, подставил согбенную спину.
— Клади! — отрывисто скомандовал надсмотрщик.
Четверо здоровенных мушей с усилием взвалили тюк на Верблюда и, сняв шапки, вытерли струившийся по лицам пот. Верблюд сделал два шага, но пошатнулся, остановился и сбросил тюк обратно.
— Нельзя. Больно тяжел был! — сказал он выпрямляясь.
С палубы снова посыпался град ругательств, и толстый армянин еще отчаяннее забегал взад и вперед..
— Эх ты, кацо![4] А еще Верблюд называешься. Какой ты верблюд? Баба! Сало морское!
Верблюд, кротко улыбаясь, отошел в сторону. Наблюдавший всю эту сцену Микола вдруг тряхнул плечами, поплевал на руки и вопросительно взглянул на своего знакомца. Все тело его так и зудело от желания по-деревенски, по-мужицки показать свою силу.
— А я попробую, а? — нерешительно вымолвил он.
— Ты? — проворчал знакомец недоверчиво. — А ну… постой-ка.
Он побежал к кучке носильщиков и начал что-то объяснять им, пуская в ход все известные ему грузинские, турецкие и армянские слова. Потом махнул рукой Миколе и торопливо прошептал ему на ходу:
— Иди… На чай дадут… Ты не сомневайся!
Микола живо снял с себя мешок, приладил к спине чей-то куртан и нагнулся. Тюк взвалили на него, и он, легонько крякнув, отнес его на место при одобрительных возгласах носильщиков. Его окружили, хлопали по спине, щупали ему руки, а он только улыбался во все стороны и крякал. Он был рад, что дорвался наконец до какой-нибудь работы.
— Ну, молодчина! — прохрипел его знакомец. — Потому — русский, а супротив русского ни одна сатана заморская не выстоит. А ты, брат Верблюд, — отставной козы барабанщик, вот что! Мы теперь с земляком всему отродью вашему нос утрем. Тебя как звать-то, земляк?
— Миколой.
— А меня Иван Рогуля. Знакомы будем. Ты не робей, землячок, не пропадем! О эдакой спиной-то да пропадать… Ни за мятный пряник! Покурим, что ли, брат ты мой любезный…
Он рылся по всем прорехам своего костюма, шарил за пазухой, наконец вывернул карманы, но табаку нигде не было. В это время, воспользовавшись короткой передышкой, носильщики расположились группами, кто прямо на земле, кто приткнувшись к тюкам, и, выпрямляя сгорбленные под куртанами спины, наскоро закусывали хлебом, огурцами, помидорами или свертывали папиросы и с наслаждением затягивались. Верблюд, сидя по-турецки на земле, тоже полез себе за пазуху.
— Тютюн есть? — спросил его Рогуля.
— Есть, мало.
— Давай сюда, мы с земляком воскурим. Эх, Верблюд, Верблюд, осрамился ты ныне, зашиб тебя Микола.
Вечером, когда небо черным бархатом обогнуло землю и сладкий запах цветущих белых акаций заглушил даже керосиновую вонь, разлитую над Батуми, Иван Рогуля сидел с Миколой у Османки в духане, угощал его дешевым вином и вонючим сулугуни (овечий грузинский сыр) и рисовал ему широкие перспективы будущего житья.
— Что ж, брат, здесь ничего, — говорил он. — Здесь жить можно. Наймешься в муши, горб у тебя здоровый, а в нашем деле горб — первое дело. Кабы мне эдакий горб, да я бы…
Он так же, как и давеча, потрепал Миколу по «горбу», и Микола скромно крякнул.
— Работа, оно, правда, тяжелая, много нашего брата на этой работе пропало, да зато и деньга хорошая: рупь двадцать в день.
— Рупь двадцать! — захлебываясь, повторил Микола, и в уме, его пронеслись сейчас же самые радужные соображения. Двадцать копеек за глаза проесть довольно, а рупь — в мошну. В месяц — это тридцать рублей, а в два — и все шестьдесят… Поправиться можно. Корова — двадцать… лошадь… одежда… семена… Счастливо улыбаясь, он поделился этими соображениями с Рогулей.
Но Рогуля отнесся к его мечтам скептически. Он давно уже потерял свою родину и свое настоящее звание, скитаясь по широкой Руси и живя где день, где ночь — сутки прочь. Если у него когда-нибудь и было свое Зашибино, то он уже так основательно порвал с ним всякие связи, что у него и воспоминания об этом не сохранилось. И планы Миколы, связанные с каким-то Зашибино, затерянным бог знает где, чуть не за две тысячи верст отсюда, показались ему пустыми и нелепыми. У него были свои планы…
— Ну, брат, ты еще с коровой подожди! — насмешливо остановил он Миколу. — Какая там корова? Ты еще сначала влезь в куртан, а потом и думай о корове. Первое дело — в куртан надо влезть, потому здесь все армяне заграбастали, у них артель; а нашему брату ходу не дают. Ну, да это наплевать, обладим как-нибудь, а главная вещь — ты пустяки брось, тут не коровой дело пахнет…
— А что? — спросил Микола и невольно пощупал себя за гаманок, висевший на кресте, как бы уже чувствуя в нем тяжесть заработанных денег.
Рогуля таинственно оглянулся. В духане было мало посетителей: только два грузина с азартом играли в кости, кидая друг на друга горящие враждебным огнем взоры, да сам хозяин, представительный турок с окладистой черной бородой, сидя на коврике, бесстрастно тянул кальян. В отворенную дверь вместе с сладким запахом акаций доносились нежные звуки музыки, игравшей на бульваре, и могучие вздохи моря.
— Что говоришь? — прохрипел Рогуля. — А то, братец ты мой, что со сноровкой здесь таких дел можно наделать — мое почтение! Потому — кругом деньга, только подбирай!
— Ну?
— Вот тебе и «ну». Видишь, вон Османка сидит, кальян курит? Тоже муша был, а теперь у него духан, а потом магазин откроет, либо гостиницу, а потом будет в карете ездить — вот тебе и муша!