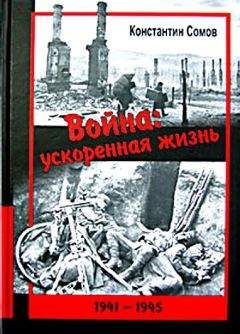Дегтярева она помнила. Как-то раз под праздник приезжал в школу. Тогда голодно было, хлеб давали по карточкам и вот ввели для ребят горячие завтраки. И как раз под праздник было это, третьего или четвертого ноября: в класс внесли коричневое эмалированное ведро, из-под крышки валил вкусный пар. Ведро поставили прямо на учительский стол, и учительница Надежда Григорьевна стала наливать миски, в каждую по одному черпаку. В тот день сварили пшенную похлебку. А на последней парте сидел щуплый, озабоченный человек в гимнастерке и наблюдал, как ребята, одетые кое-как — на ком старенькое бумазейное платье, на ком штаны, явно переделанные из отцовских, — послушно протягивали руки, принимая миски. Ложка у каждого была своя. Да, в те времена прежде, чем положить в сумку тетради, ученик клал туда старательно вымытую и завернутую в тряпочку ложку. И посещаемость была тогда очень хорошая. Позже к завтраку стали давать еще и булочку, и если ученик болел, булочку несли к нему домой ребята из его звена… Помнится, в тот самый первый раз, когда Дегтярев сидел в классе, ей не повезло: как-то неудачно поставила свою миску и похлебка пролилась. Неудобно, парта ведь покатая. Потом придумали подкладывать сбоку под крышку комочки бумаги, чтобы крышка держалась прямо, а тогда еще не было опыта…
Старуха тихонько тронула за плечо:
— Коновалова Ася Петровна, женотдел наш…
— Да, да — вижу, вижу Асю Петровну…
Строгое лицо в круглых очках, короткая стрижка, резкие морщины у рта… Как-то Ася Петровна приезжала в школу, привезла тетрадки. Это были настоящие тетрадки, а до того писали на каких-то конторских листках. Листки были расчерчены синим и красным, наверху напечатаны непонятные слова: «дебет» и «кредит». Ася Петровна раздала каждому по две тетрадки и строго приказала писать чисто и все строчки до конца заполнять. Полей тогда не делали…
— Да вы откуда знаете-то всех? — удивилась старуха. — Разве здешняя?
— Была здешняя, здесь росла…
— Ах ты, господи. То-то я вижу, интересуетесь.
Женщина выдвинулась вперед, пытливо заглянула в лицо.
— Смотрю, не знакомая ли. Я ведь, почитай, всех тут знала.
— Ну, где же знать всех, — улыбнулась Вера Ивановна.
— Всех не всех, а многих знавала… Тогда ведь и народу-то меньше было.
— Меньше, меньше, — кивнула она, не отрывая глаз от фотографий… Струнный кружок завода «Красный металлист», а вот ликбез, заседание горсовета, первые ударницы ткацкой фабрики…
— Вы где жили-то? — спросила старуха.
— На Советской, где булочная, в том самом дворе.
— В девятнадцатом?.. Батюшки, а я-то в двадцать третьем! Соседи, значит. Вы чья будете-то? Может, знакомая?
— Да навряд ли… Я ведь девчонкой тогда была. За год до войны в институт поступила и в Москву уехала. С тех пор и не бывала. Вот впервые…
Она остановилась перед снимком: «Хлебозавод № 4 вступил в строй». На фоне кирпичной стены — группа женщин в длинных юбках и жакетах, в платочках. Все напряженно смотрят вперед. Она хорошо помнила тот день, когда впервые продавали без карточек белый хлеб. Очередь выстроилась во дворе еще с утра, задолго до открытия. Вера как раз собиралась в школу. Распахнула окно и ахнула: двор весь черен от людей. Очередь завивалась спиралью, тянулась за ворота, на улицу. В тот день отец принес белый батон, выдали на работе. Вся семья стояла вокруг стола, молча рассматривала батон…
— А вот и сыночек мой, — старуха осторожно потянула ее за рукав, — вот он, крайний идет…
Парад физкультурников, все в белых майках и черных трусах. С краю шагает невысокий паренек, ветер вздыбил светлые вихры.
— Погиб в сорок первом, — вздохнула старуха. — Вы не помните его? Ведь по той же улице бегал. И во двор к вам забегал, бывало. Как не забегать…
Вера Ивановна вгляделась пристальнее. Лицо как лицо. Глаза сощурил — солнце… Тонкая шея, худые мускулистые плечи… Вроде незнаком. И все же было в облике этого парнишки что-то очень близкое, характерное для всех мальчишек и девчонок с их улицы. Он был почти знаком.
— Кажется, вспоминаю, — неуверенно пробормотала она.
— Как же, как же, должны помнить, — настаивала старуха. — Небось в горсад вместе лазали.
— В дырку, — улыбнулась Вера Ивановна.
— В дырку, в дырку, — обрадовалась старуха. — По двадцать копеек за вход брали, где же взять ребятне. Известно, в дырку и лазали. Бывало, я уж и ругать-то и стращать-то, да куда там! Как вечер, Сережка уж и свистит под окном. Дружок, значит, Грачев Сережка. Озорник известный, а мой-то его уважал. «Грач, говорит, смелый, не то, что другие, мы, говорит, с Грачом в военную школу поступим, в летчики…»
— Грач? Сережка Грачев?..
Сережку она помнила. Еще бы, самый заводила, гроза окрестных ребят. Во дворе все девочки враждовали с ним из-за цветочной клумбы. Как-то поздним вечером Сережка изловчился и оборвал все цветы. Цветы продал кому-то у горсадовских ворот, а на деньги эти целых два дня ел мороженое и катался на карусели.
— Вот видите, Сережку-то вспомнили. Может, и моего вспомните? Алешеньку-то? Ростом невысокий, светленький такой, всегда вместе, куда Сережка, туда и он, Алеша Колосков, еще все в голубенькой майке бегал… Да вы присядьте, устали небось, в ногах-то правды нет. Еще успеете, осмотрите.
Вера Ивановна опустилась на скамью, по-новому вгляделась в лицо старухи. Собственно, уж и не такая она старая. Бледное, слегка оплывшее лицо пожилого, усталого человека, морщины между бровей. Присела рядом, сложила на коленях сухие, легкие руки. Видно было, что эти руки много поработали за жизнь, привыкли к непрестанному движению, а теперь вот лежат на ситцевых коленях отрешенно, скорбно, будто отставил кто их от дела, будто напрасная то была суета — мыть, стирать, варить, баюкать. Долгие годы.
— Шапочка-то хороша, — сказала старуха, глядя на Веру Ивановну. — Что за зверь-то?
— Норка.
— А-а. Хороша, говорю. А сами-то где живете?
— Далеко, в Якутске. Уж двадцать лет работаю, там и муж, и дети.
— Эк, занесло куда. Много деток-то?
— Двое. Так вы говорите Колосковы ваша фамилия?..
— Колосковы, Колоскова я, Варвара Тимофеевна…
Она задумалась. Теперь ей стало казаться, что и точно — какой-то мальчишка вечно вертелся около Сережки Грачева. Что-то такое было, лохматое, в голубенькой майке. Даже лицо мелькнуло в памяти — остренькое, со светлыми глазами.
— Так он погиб, сын ваш? — с участием спросила Вера Ивановна.
— Сразу же. Не успела я его, сыночка, проводить, а уж и похоронную несут… В первом же бою.
Обе женщины замолчали. В комнатах потемнело — окна задвинуло свинцовой снеговой тучей, за стеклами косо полетел снег. В тишине заунывно гудело отопление да старый паркет потрескивал.
Фотографии уже стали неразличимы во тьме, лишь одна — светлая, ближе к окну: торжественный выезд первого городского трамвая. Вокруг трамвая, разукрашенного плакатами и флажками, — группа улыбающихся людей. Одетые в Потрепанные пиджаки и кепки, в ситцевые юбки, в стоптанную обувь — снимок безжалостно обнажал все заплаты — люди кричали что-то, смеялись, хлопали в ладоши. Весь порыв, все их улыбки и радость, все было направлено к выезжающему из депо неказистому трамваю. За передним стеклом — исполненный важности водитель и ликующие ребятишки: первые пассажиры… Это событие — она помнила — случилось Первого мая. Сама Вера вместе с ватагой ребят бежала вслед за разукрашенным первомайским вагоном. Так его и называли: «Первомайский»…
— А это — пуск трамвая, — пояснила Варвара Тимофеевна. — Новый трамвай, значит, провели.
— Помню, как же, помню, первомайский! Помню и старый трамвай.
— И правда, — согласилась старуха, — была еще старая царская линия, от завода до горбольницы. Смех один. Бывало, отец едет на этом трамвайчике с завода, в оконце поглядывает, кричит мальчишкам на улицу: «Эй, Витька, Петька! Бегите к матери, скажите, пускай самовар ставит! Тятька, мол, с получки на трамвае катит». Вот была скорость-то…
Женщины снова умолкли. В соседнем зале прошаркала экскурсия, четкий голос докладывал: «Этот портрет граф подарил своей любовнице. Ваза, которая изображена на портрете, — вот здесь, видите, она? — ваза эта также была подарена в честь, значит, дня рождения. Теперь попрошу перейти сюда. Ближе, ближе. Портрет графини Козельской, образец портретной живописи первой половины восемнадцатого века…»
Старуха вздохнула:
— А в наш отдел никто, почитай, не заходит. Как увидят — карточки, документы разные, так и бежать. Школьников пригонят иногда, так беда от них. В прошлый раз, вон, трофей утащили.
— Какой трофей?
— Немецкий. Автомат с обрезанным дулом, партизанское ружье. Каску тоже все норовят примерять. — Только гляди за ними… Вот уж вы-то меня порадовали. Посетительницу бог послал!.. Гляжу, все смотрит, ничего не пропускает, интересуется. Дай, думаю, подойду… Может, скажете имя-то? Может, вспомню из ваших кого.