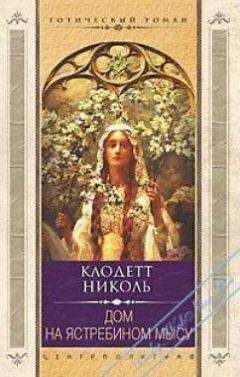— Ты зачем убиваешь маленьких бычков?
— А ты зачем их кошке отдаешь?
— Я... если мало поймаю...
— Отпусти, любимец, если мало. Кошка пускай мышами кормится, раз человек энту тварь не потребляет.
Не ожидал Русик такого ответа, не знал, что старик видел санаторного бродяжливого кота, которого Русик прозвал «Базилио» и иногда дает ему несколько рыбешек. Шаланда хмуро смотрел на Русика и, заметив его внезапное смущение, вспыхнувшие конопушки на щеках, хрипло и протяжно захихикал.
— В каком классе учисся?
— Скоро в первый пойду. А читать умею.
— Смотри-ка, малец-мальчонка. А я думал, в третьем или четвертом уже. Ну, все одно — грамотный, раз книги читаешь. Вот тебе моя наука. Поприглядись, ответь мне, что это такое обозначает.
Шаланда поднес к лицу Русика скрюченные, почти черные, с загнутыми желтыми, закаменелыми ногтями пальцы. Никогда не видел Русик близко руки старика и понял сейчас, почему говорят о таких: узловатые. Суставы пальцев у Шаланды напоминали узлы туго завязанных веревок-шкотов.
— Молчишь? Сам пояснение дам. Разве этакими клешнями маленькую рыбешку сымешь? Глянь. Крючья натуральные, которыми осетра ловят. Поржавелые еще.
— П-почему такие? — спросил Русик, чуть отшатнувшись, словно желтые ногти могли впиться ему в лицо.
— От работы, от соли, любимец. За это и обожали Молдаванка и Пересыпь Костю-моряка. — И старик негромко, хрипуче запел: — «Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет...»
Он пел, снова пригасив водянистыми веками глаза, а Русик смотрел в море и думал, что сейчас оно дымно-зеленое, бурное, опасное для рыбачьих шаланд. На мачте портовой службы, пожалуй, качается не меньше двух черных шаров штормового предупреждения. И только большие корабли непоколебимыми темными громадами проплывают вдали от берега. Идут пароходы в порт разгружаться и загружаться. Наши, заграничные. Моряки выходят на Приморский бульвар, шумные, в бело-синих форменках, из разных стран мира: загорелые, смуглые, черные. Говорят громко и непонятно, всем улыбаются... Когда-то работал в торговом порту грузчиком Шаланда, бегал по трапам с мешками и ящиками за спиной, а теперь там, вдоль бетонных пирсов, — краны на рельсах, много кранов, железный лес издали, двигаются, шевелят вроде бы лениво решетчатыми стрелами-руками. Людей почти не видно, грузчиков и подавно нет (брезентовые нагорбники давно в музеи сдали). От такого нагорбника, наверное, у старика спина скрючилась, как большая мозоль стала. Но поет он не грустно, просто задумчиво, забыв, кто с ним рядом, поет — вспоминает свою хорошую молодость, отчаянную рыбачку Соню и сам молодеет. Седые волосы вовсе, может, и не седые — сорвал ветер с волны пену, бросил Шаланде на голову...
Русику припоминается бабка Соня, жена старика (да, это точно, ее звать Соня, а его Константин), всегда крикливая, толстая, краснолицая, со всегдашней своей поговоркой: «Чево кричишь, как на пароходе!» Ей кажется, что и на нее все кричат. Этой весной их семейству урезали приусадебный участок, потому что вся окраина, бывшая деревня, стала вдруг тоже городом. Бабка Соня ездила скандалить к большому начальству, каждый вечер кричала соседкам, что они голодранки, а в городские захотели, из-за них будто бы и присоединили деревню к городу. Русик не понимает, почему так возмущалась бабка Соня. Жить в городе лучше, особенно таком, красивом, колбасу разную, мороженое продают, трамвайную линию провели, потом, может быть, построят белые высокие дома с лифтами и всех переселят в них; на балконе Русик капитанский мостик устроит или пост наблюдения, каждое утро будет видеть море и пароходы.
Шаланда кончил петь, тихо поулыбался сам себе, поднял клеенчатую сумку, глянул в нее:
— Ого, любимец, у тебя закусить имеется?
Русик разломил пополам бутерброд с маслом, разделил колбаску копченую, сладкий сырок подержал в руке, положил обратно: одному есть неловко, а старик, пожалуй, откажется. Детская еда.
— Хорошо, что в городе стали жить, правда? — сказал Русик, глядя, как Шаланда старательно мнет беззубыми деснами жесткую мякоть колбасы.
— Это с какой стороны подойти. Мы городу больше понадобились. Чтоб мильон был.
— Миллион человек?
— Ну да. Когда мильон, в особое положение такой город вступает: снабжение, строительство, пятое — десятое по первой категории. Такую политику понять можешь?
— Могу.
— Ты, Еруслан, скоро состарисся. Малец-мальчонка — и все маракует! Это потому — без отца растешь, вроде сам себе вдвойне голова. Так, что ли?
— Папка в плавании, есть у меня папка, он в загранку ходит...
— Ясно, никто без папок на свет не рождается. Только твой долго плавает. Сколь уже годов? Четыре, толкуешь? Половину твоей жизни.
— Он придет. Обещал приехать.
— Пусть покажет свой конопатый нос, я с ним лично по-моряцки побеседую.
Перестав жевать, Русик отвернулся к морю, и оно стало для него мутно-серым, будто застелил воду сплошной туман, и волны приглохли, и морось, приносимая ветром, казалась теплой. Почему никто, кроме матери, не верит ему, что отец в долгом плавании, жалеют его, а то подшучивают: «Не вернется, бросил тебя, шибко рыжим уродился». С фронта без вести пропавшие приходили... Отец ведь живой, работает матросом первого класса на большом танкере «Орел»... Но недолго огорчался Русик, он не умел быть сердитым, любил отца, немножко помнил его и всегда верил ему. Вот он в морской робе, невысокий, зато крепкий и разворотливый, чуть раскачиваясь, идет по палубе танкера, осматривает свое хозяйство: тросы, лебедки, шлюпки, запасные якоря. За бортом бушует Атлантический океан, выпрыгивают из воды летающие рыбы и дельфины, волны перекатываются через железную палубу, вдали виднеются тропические острова. Отец стоит на носу «Орла», лицо ему секут острые брызги, он смотрит в бинокль — нет ли какой опасности. Танкер выполняет важный рейс — везет на Кубу тысячи тонн нефти...
— А этот, новый, тебя не обижает?
— Иван Сафонович? Он Нинуськин папка.
— Понятно, что не твой, потому и спрашиваю.
— Не-е. Он только долго разговаривает. Жить меня учит.
— Занудный тип, знаю.
— Мама говорит: хозяйственный мужик.
— Ясное дело, мимо своего рта ложку не пронесет. Видал я таких мужиков: пока молодые — бойкие шибко, а опосля, как зачахнут, местечко тихое ищут, возле чужого тепла погреться, хозяйственными делаются... Был у нас такой, тоже приезжий, году в сорок шестом, в порту работал. Ну, теперь краны, техника, а тогда горб грузчика, биндюжника — вся механизация. По двенадцать и более часов с мешками, ящиками бегали из трюмов на пирсы. Паек, правда, хороший получали, дополнительный. Ты вот и не понимаешь, любимец, какая такая штука карточная система. Так ведь?
— Хлеба мало давали. Мама рассказывала.
— Всего мало давали, а то и вовсе нечего было давать, война все съела. Ну, мы артельно жили, кашеваркой у нас Сонька моя работала. Главное — еда горячая да чтоб сполна, иначе пропал. И не отрывайся от артели, это еще важней: поможет, выручит братва — заболел, или пропился, или семье помочь надо. Каждый ведь человек, у кого ошибок не бывает. Даже конь, говорят, о четырех копытах и то спотыкается, пароход в тыщу лошадиных сил на мель садится. А человек — он как ты да я. Вроде крепкие, в душе могучие, а пойди вон к волне, стань — шибанет о камень, и нету нас, хороните, люди, красивые трупы.
— Ты про мужика хотел...
— Я и подвожу к мужику этому дело. Мы, значит, артельно живем, спины гнем, кашу хлебаем, он — в одиночку. Бегает по трапам вместе с нами, помалкивая, а как обед — в сторонке паек свой поедает. Исхудал мужик, несмотря что Сонька подкармливала из артельного котла остатками. При нас не брал, правда, стыдился. Опосля выяснилось: паек на Привозе продавал, на рынке, денежки скапливал мужичок, хотел богатым уехать в Россию. Не знаю, как бы у него вышло, может, выдюжил голодовку, да тут денежную реформу провели, а у него весь капиталец хранился в сундучке. И получил хозяйственный мужик за кажную десятку по рублику. Тебе не понять, любимец, такую трагедию. Не выдержала душа, пошатнулась, в психиатричку попал наш приезжий биндюжник. Жалели мы его, навещали. Через какое-то время, правда, оклемался, вышел на волю, к нам не пошел, умно оценил обстановку — мужиков мало, вдов вдоволь,— прибился к одной с домом, садом, огородом и по сю пору на Привозе фруктами-овощами торгует Гладкий, краснорожий, довольный жизнью. Меня презирает, Соньку не узнает. А я всегда ему говорю: «Привет, биндюжник!» И запою иной раз: «Шаланды, полные кефали...» Шипит, бормочет, милицией пугает, прибил бы меня: я ему прошлое напоминаю, а он там душу свою оставил; семью — где-то в России, а душу — в тех днях, когда горелые остатки из котла доедал. Вот как бывает, любимец милый! Да что ж я тебе, мальцу, про это рассказываю? Заболтался совсем.