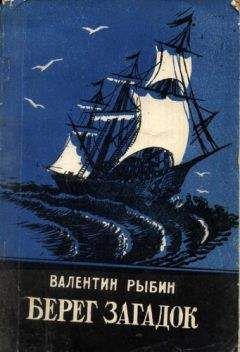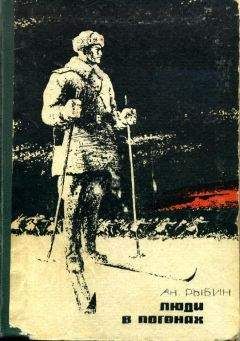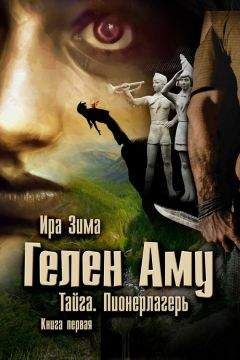— Ты потише, вахлак, а вдруг начальник не спит, — предостерег второй казак.
— Спит, — отмахнулся первый. — Чего ему не спать-то, сам себе голова.
Карелин подумал с сожалением: если бы только одни казаки рассуждали вот так бездумно! Некие государственные мужи тоже смотрят на натуралистов, как на больших детей. И отправляя их в научные путешествия, отнюдь не записывают в параграфы инструкций сбор растений, составление гербариев и препарацию редких животных. На такие занятия денег вовсе не отпускается. Если узнает министр финансов, граф Канкрин, что начальник научно-торговой экспедиции часть средств ухлопал на уплату туркменам за то, что они по его просьбе наловили ему змей и черепах, зверушек разных, птиц и насекомых, не сдобровать Карелину. Министру подай докладную с описанием всех заливов и рек, островов и полезных ископаемых, с расчетами - какие выгоды получит Россия от них. Зная это, Григорий Силыч с успехом выполнил почти все параграфы министерской инструкции. Не произвел пока обследование Карабогазского залива, но это - дело времени. Вот слазит на Дигрем, нанесет русло древнего Узбоя на топографическую карту, а тогда и к Карабогазу можно будет податься...
Засыпая, Григорий Силыч слышал разговор туркмен с казаками, но в смысл их беседы не вслушивался: кажется, они посмеивались над странностями своего начальника. Он не обращал внимания на них и, согреваясь под верблюжьей накидкой, думал, что все-таки удалось ему, ссыльному бывшему прапорщику, хоть и с большим трудом, вернуть благорасположение высшего начальства. А ведь в первые годы, когда доставили его в Оренбург, вовсе с ним не считались...
Память перенесла его в юность, когда он, только окончивший военное заведение, служил топографам в канцелярии военного министра, графа Аракчеева. Однажды собрались они, молодые офицеры, на вечеринку. Выпили вина, спели несколько песен и заговорили о вольности и благоденствии. Кто-то прочитал убийственно-меткую эпиграмму Пушкина на Аракчеева. И остроумный прапорщик Карелин, долго не мудрствуя, взял лист бумаги, нарисовал черта с нимбом через плечо и подписал: «Бес лести предан». Безусловно, все кто был за столом, узнали в карикатуре своего министра, и порадовались остроумию и смелости молодого офицера. Но нашелся и предатель... На следующее утро, когда прапорщик Карелин сидел за топографскими материалами, вошел к нему в кабинет жандарм и приказал: «Следуйте за мной!» — «Позвольте надеть сюртук и шляпу, ваше благородие?» — «Нет-с, не велено!» — «Позвольте взять хоть носовой платок!» — «Шутить изволите, господин прапорщик — следуйте поживее, вас ждет карета!»
Карелина усадили в коляску и понеслась она по просторам России пока не докатилась до Оренбурга. Здесь жандармы сдали с рук на руки прапорщика военному губернатору и препроводительный пакет ему вручили в котором указывалось, как обойтись с присланным офицером.
Позднее Карелин узнал от генерала Перовского, что в письме Аракчеева не было ни одного слова об эпиграмме, но указывалось, что прапорщик сей одержим вольнодумством, и следует приставить к нему постоянный надзор. Года два находился Карелин неотлучно при штабе, а затем направили его в экспедицию к Аральскому морю.
Лет через десять, когда история с чертом и нимбом подзабылась, направил оренбургский генерал-губернатор Карелина в Букеевскую орду — учить грамоте хана Джангира и быть помощником в его делах. Воспользовавшись своей относительной свободой, Григорий Силыч Карелин снял Букеевскую орду на карту и попытался войти с ней в ученый мир. Помочь ему вызвался профессор зоологии и ботаники Казанского университета Эдуард Эверсман. Но увы — не нашлось места для публикации научных трудов Карелина. Старое ли припомнили или иная какая-то причина, но карта Букеевской орды вышла в Берлине, а ее автором был назван профессор Эверсман...
Слава богу, Аракчеев два года назад почил вечным сном,— угроза быть отвергнутым и навсегда забытым несколько смягчилась. Да и Карелии заявил о себе в свете, как первооткрыватель земель доселе безродных. Четыре года назад заложил он со своим отрядом на мысе Тюб-Караган поселение. Теперь там открылась фактория. Купцы астраханские швартуют свои расшивы с разными товарами у Тюб-Карагана, да и поселение уже названо фортом-Александровским. Туркмены и кайсаки толпятся на пристани, увозят с нее на верблюдах тюки с казанами, железной посудой, с мануфактурой всякого вида — от китайской нанки до русского ситчика. И уже основались в избах, сбитых из привозного леса, русские казаки, сподвижники Карелина. Они одни знают и помнят, как дорого далось ему это поселение на мысе. Сколько сил вложил он, чтобы уговорить владельцев шкоутов и расшив на переброску леса, жести и прочего материала на Тюб-Караган! А как неохотно записывались в рабочую артель люди, чтобы тесать камни и вести кладку стен, грузить и разгружать баржи и расшивы. Да и с провиантом были перебои — шкоуты с зерном и мукой застревали по пути в лагунах и заливах. Позапрошлой осенью Григорий Силыч выехал из Гурьева на расшиве, чтобы доставить и раздать своим артельщикам заработанные деньги, но в пути произошла авария судна. Расшиву поставили на якорь, занялись ремонтом, а тут вдруг снег выпал и ударил мороз. Ледна Каспии замерз. Подождали день-другой — думали, солнце выйдет растопит еще неокрепший ледовый панцирь, но не тут-то было. Засвистели метели по обледеневшему морю, и опять выпал снег, лег на лед основательно. Тогда Карелин вернулся в Гурьев, снарядил санный обоз и вновь пустился к Тюб-Карагану, к артельщикам, которые с голоду уже бунт подняли. Спешил Григорий Силыч к людям — да так спешил, что провалились они вместе с ездоком и деньгами под лед. Карелина вытянули из ледяной воды, мешок с деньгами тоже достали. Растерли пострадавшего спиртом и выпить дали — вроде бы все обошлось. И вот только теперь, в это лето, почувствовал он тупую, ноющую боль в пояснице, Боль эта не давала ему покоя, и возникала всегда внезапно. Он понимал — это от ледяной ванны, и лечил эту боль как мог. Когда, до захода в Балханский залив, гостили у Кията на Челекене, старик лечил Григория Силыча тузлуком — раскаленной на огне солью и насыпанной в мешочек. Соль прикладывал на поясницу, отчего больной охал и стонал. А Кият-хан посмеивался и приговаривал; «Ничего, Силыч, терпи — сниму твою болезнь. Никогда больше болеть не будешь!» Верил Карелин доброму старику-туркмену, да и сейчас, чувствуя ломоту в пояснице, подбадривал сам себя: ничего вот в гору полезем — разомнутся, расправятся косточки и жилы — боль сама собой отстанет. Пока что он и мысли не допускал, что эта поясничная боль через много лет выльется в паралич обоих ног. Дряхлым стариком будет он передвигаться на костылях и доживать свои последние дни в безвестном городке Гурьеве. Мог ли он подумать сейчас о том, что и с семьей— женой и дочерями расстанется навсегда; о том, что он — натуралист-ученый свяжет навсегда свою судьбу с кочевниками-туркменами и сам станет кочевником. О, если бы можно было заглянуть в будущее — оно его ошеломило! Двенадцать томов научных трудов по ботанике и зоологии, подготовленных к изданию ученым Карелиным сгорят в большом Гурьевском пожаре, и сам он не выдержав такого бессмысленно - жестокого удара судьбы умрет в этом, спаленном огнем, заштатном уральском городке... Ничего он этого не мог знать и предвидеть, и сейчас, думая лишь о своем любимом деле — об изучении неизвестных науке мест, о растительном и животном мире, — вспомнил с любовью, но с неким угрызением совести жену Сашеньку, которая после того как ему жаловали звание колежского ассесора, покоя не дает, настаивает на переезде из этих глухих оренбургских мест в Москву или Подмосковье. Мечта ее — купить хотя бы небольшой домишко, учительствовать в каком-либо селе, изредка выезжать в белокаменную, а то и в Петербург. Но главная ее забота не о себе, а о двух девочках — дочерях, которым надо дать образование и вывести в свет... Засыпая, Григорий Силыч рисовал себе картину — как он будет жить, когда семья переселится в Москву. Сашенька с Лизой и Соней будут там, а он раз в год станет наезжать к ним. Не может же он оставить, навсегда Урал, Мангышлак, Туркмению, с которыми целых пятнадцать лет связан каждой мыслью, каждым нервом!.. Но надо спешить, спешить. Надо побывать на Балханах, надо снять на карту древний Узбой, надо осмотреть Карабогаз— ский залив и успеть вернуться в Оренбург доРождества. А оттуда сразу в Петербург, на доклад в министерство... С этими мыслями он уснул и проснулся бодрым и жизнерадостным, вполне готовым в дорогу...
Рассвет обнажил необъятные просторы Каракумской пустыни и, как застывшего часового над ней, вершину Дигрем. В утренней дымке гора выглядела сказочно красиво. Она была темно-синего цвета и возвышалась не только над Каракумами, но и над целой грядой более низких гор. Над Дигремом бледно-розовой диадемой лежал ореол осеннего рассвета. До горы было верст тридцать, это значит, еще целый день пути, и Карелин дал команду, чтобы казаки поторапливались. Задолго до восхода солнца началась переправа. Вещи перевозили в туркменской лодчонке — кулазе, привезенной с собой на верблюде. Люди и лошади переправлялись вброд. С величайшей неохотой и жалобным ревом входили в воду верблюды. Долго стояли, задирая шеи и не подчиняясь своим погонщикам. Наконец, переправились все, собрались вместе и двинулись дальше, к горам.