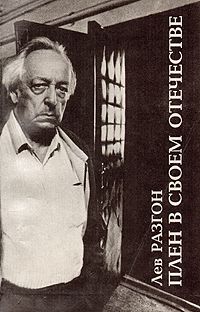«Жить надо, Юрочка, со всей страной, все хорошее и все плохое делить вместе…» — говорил он.
И Юра Кастрицын очень гордился своим отцом, хотя небрежно, в разговоре с ребятами, называл его «мой старик».
Но так было только до тех пор, пока Юра не окончил школу второй ступени. И наотрез отказался поступать в университет. В тот самый университет, где его ждали, где он должен был — обязан! — совершить переворот в науке. Юра Кастрицын вовсе не был ни против университета, ни против пауки. Но ему казалось чудовищным, что можно копаться во внутренностях голотурий и медуз, изучать бесчисленные виды ракообразных сейчас, в такое время! Юре и так не повезло: он родился на каких-то три-четыре года позже и все великое прошло рядом, не затронув его. Он не штурмовал Зимний, не стоял в карауле у Смольного, в маскировочном белом халате не пробирался по треснувшему льду к мятежному Кронштадту. Все это происходило в знакомых с детства местах, и все это прошло мимо!.. А сейчас им, только-только подросшим, оставалось одно — разруха… Она была таким же врагом, как Колчак и Юденич, как Деникин и Врангель… Надо было вдохнуть жизнь в заледеневшие, мертвые заводы, надо, чтобы снова загорелись фонари на улицах, чтобы исчезли серые тоскливые очереди у булочных… А голотурии — они могут подождать!
Это было так ясно Юре, это было так понятно любому школьнику, что невозможно было себе представить, что этого не понимает Юрин умный и добрый отец, профессор, «совдеповский профессор», как его тайком называли некоторые знакомые. Но он этого не только не понял — он мгновенно утратил все свое благосклонное отношение к Юриным интересам, как только сын ему объявил, что по путевке губкома он уезжает строить Волховскую станцию…
— А кем ты там будешь, на этой на станции?
— Не знаю еще. Слесарем буду. Или бетонщиком. Всему научусь!
— И ради того, чтобы ты возил тачку с бетоном, тебя учили столько лет! Учили твоих учителей, учили тебя, чтобы Юрий Кастрицын делал то, что может делать — еще лучше сделает! — любой деревенский парень! Что ж, при твоем социализме не будет никаких распределений обязанностей? По способностям? По призванию? По мере знаний?
— Будет, папа. Все будет. Только социализм надо еще построить! А так как он мой, то я и должен его строить! Вместе со всеми. С этими деревенскими парнями. Ты и голотурий мог своих резать только потому, что эти, как ты их называешь, деревенские парии тебя защищали. И вообще, отец, не будем спорить. Словесной не место кляузе.
— Мальчишка!
…Да, все было. И бешеные крики отца. И тихие слезы матери И это противное, отвратительное чувство отчужденности, когда три самых близких человека собираются вместе за столом и враждебно молчат… Юра спешил. Надо было скорее уезжать из дома, вдруг ставшего не только чужим — враждебным… И отец не вышел из кабинета, не попрощался… Юра неуклюже обнял мать и со щемящей жалостью увидел ее совсем побелевшие волосы, морщины на лице…
— Юрочка, квартиру сними у хороших людей… С хозяйкой договорись, что она тебе будет стирать и каждое утро будет давать завтрак… Не смей уходить на работу натощак! Не забывай закрывать шею… Помни про свои гланды!..
— Да, да, мамочка… Я обязательно буду утром пить чай и завтракать И буду помнить про свои гланды… Только ты не волнуйся и не беспокойся за меня… Все будет очень хорошо!..
Бедная, смешная мамочка!.. Она постоянно беспокоилась о Юриных гландах, об этих проклятых гландах, которые имеются только у профессорских детей!.. Она даже и не представляла себе, что на стройке ее Юрочка будет работать и без завтрака, а иногда и без обеда, что он будет часами стоять в холодной воде и цеплять багром скользкие и тяжелые бревна… И что Юра плевать хотел на эти гланды, а когда у него и заболит горло, то он нарочно не будет ходить в больничку, чтобы не слышать этого мерзкого, надоевшего, насквозь буржуазного слова — гланды!..
Первые месяцы Юриной жизни на стройке были наполнены радостью свободы и первым в жизни ощущением, что то, что он делает, всем нужно. Юра пришел на стройку в авральное время. Река скоро должна была стать, по ней уже шла шуга. Пришел большой плот леса, и его надо было разобрать и вытащить на берег, пока он не вмерз в лед… Все были мобилизованы на аврал и до самой глубокой темноты работали на берегу. Юра со всеми ребятами таскал бревна, выкатывал их на берег и укладывал в штабеля. Катать приходилось высоко, чтобы весенний разлив не разнес штабеля. Брезентовые рукавицы превращались в клочья через несколько дней, а новые давали только через месяц. Руки у Юры были покрыты волдырями кровавых мозолей, их разъедала холодная вода. Но Юра оставался всегда веселым, его огненная шевелюра выбивалась из-под шапки, как флаг, и его крик «Словесной не место кляузе» раздавался как слово команды. И Юра узнал, что он вовсе не изнеженный профессорский сынок, а здоровый парень. И он никогда не старался становиться под легкую вершину бревна, и его уже все звали «комлевиком», потому что Юра Кастрицын всегда катал толстую, комлистую часть бревна. И всем ребятам в высшей степени было наплевать на то, что Юра когда-то строил домики из книг отца и любил играть в пиратов… И сам Юра вспоминал об этом, как о чем-то очень далеком и чужом… Каждый вечер, уходя с катища, Юра видел стройные штабеля леса. Им вытащенный из воды, им укатанный!
Жил Юра ни у какой не у хозяйки, а вместе со всеми ребятами, спал в большом и грязном бараке. В столовой кормили только обедом, а утром Юра наспех выпивал кружку кипятка с куском черного хлеба. А бывало, что съедал он этот кусок и без кипятка… А по вечерам, переодевшись в сухое, бежал в ячейку, и там допоздна комсомольцы репетировали «живую газету», спорили о том, кто хуже — капиталисты или же социал-предатели, пели песни… Юрку быстро полюбили ребята. За то, что он был всегда веселый, за то, что не боялся никакой работы, за то, что он был такой рыжий, каких, наверно, и на свете нет… За то, что он пел громче всех и, выкидывая вперед руки, читал стихи, хоть и не очень попятные, но уж зато боевые:
Р-р-разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер!
И уже становилось все понятным, когда Юра выкрикивал:
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Да, это была славная и хорошая жизнь! И Юра понимал, что социализм строить не только надо, — строить его весело и интересно!.. К середине зимы, когда весь лес вытащили, а ребят распределили по разным работам, Юру, как парня грамотного, толкового и себя показавшего, послали на экскаватор. «Помощник машиниста экскаватора», — небрежно отвечал Юра на вопрос о том, кем он работает… Не стоило им рассказывать, что «помощник машиниста» целый день обыкновенной лопатой очищает ковш экскаватора от налипшей земли или же оттаскивает от ковша большие валуны… Неразговорчивый экскаваторщик Юстус был им доволен. Когда шел сухой грунт и проклятая грязь не липла к ковшу, он пускал его в будку, и Юра часами смотрел, как работают ловкие и быстрые руки машиниста. А однажды Юстус сказал Юре: «Садись, перекурю!» — как будто он когда-либо и выпускал изо рта коротенькую трубку… У Юры мгновенно вспотели ладони… Но он сел за рычаги… А еще через некоторое время на экскаватор пришел новый парень и взялся за лопату, а Юра насовсем перебрался в будку экскаватора — почти такую же, как капитанский мостик на корабле…
Станция строилась! Теперь это было видно всем, даже тем, кто здесь жил уже давно и к строительной суете привык. Когда Юра с ребятами еще затемно выходили из барака, они вливались в толпу людей, идущих по Волховскому проспекту. А когда совсем рассветало, то, если взобраться на горку, что справа от конторы, становилась видна вся панорама стройки: с тысячами людей, копающих землю, рубящих ряжи, возящих бетон, грунт… Были видны дымы костров, белые струйки пара локомобиля, были слышны свистки паровозика и путиловского экскаватора, глухие удары взрывов динамита, откалывающего камень, слышно звонкое тюканье топоров, уханье ломов…
Станция строилась! И когда изготовили первый кессон и на митинге сочиняли об этом телеграмму товарищу Ленину, то Гриша Варенцов предложил написать Ильичу, что через два года — а может, раньше, а? — Волховская гидроэлектрическая станция даст Петрограду ток!
— Не торопись, сынок, поперед батьки!.. — ответил ему Омулев. — А то вот наобещаем Ильичу, а не сделаем — какими глазами на него смотреть будем?
И Кастрицын мгновенно увидел перед собой глаза Ленина, как на портрете в клубе, — чуть прищуренные, все видящие, не терпящие хвастовства…