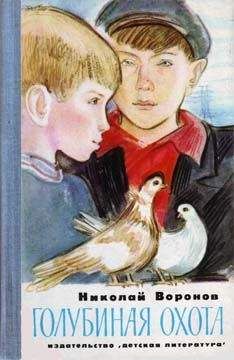В кабинете, опять наставляя на оконный свет лист рентгеновской пленки, вспомнил, как были счастливы, спускаясь по лестнице, паренек и девчонка.
Предполагая, что их, куда-то девавшихся, собираются искать, Маша и Владька неслись по улицам чуть ли не бегом. Неподалеку от стадиона они встретили Торопчиных, спешивших на футбол. Маша подосадовала про себя: такие культурные люди и им интересно, как здоровенные мужчины (по Хмырю — коблы́) пинают мяч, толкаются, куются, рычат, корчатся, сшибленные на поле.
В том, что черные волосы Сергея Федоровича глянцевели, а лицо было чисто выбрито, а также в этой белой полотняной рубашке, в коричневых брюках и сандалетах было столько праздничности, что Маша подумала, что, видимо, в футболе, кроме беготни и силовых приемов, есть и еще что-то. Сергей Федорович, наверно, чтобы разглядеть ее, надел очки. Золотая планка очков поблескивала. К его возрасту Владька тоже станет благородным и красивым, только ему надо будет зачесывать волосы назад и носить очки со стеклами, привинченными к позолоченной планке.
Беловолосые люди всегда казались Маше тускловатыми. И она поразилась, что Кира, жена Сергея Федоровича, не выглядела невзрачно рядом с ним. Она была высокая, с золотистыми бровями и ресницами и розовым румянцем.
Сергею Федоровичу не терпелось очутиться на стадионе. Он велел Владьке отправляться восвояси: извелась бабушка — с утра ведь пропал.
Сергей Федорович взял под руку жену и сестру. Но Наталья Федоровна вдруг расхотела идти на футбол.
Когда брат и Кира отошли, она сказала Маше, что скучает о сыне и дочери, которые отправились в туристический поход на Кольский полуостров, поэтому охотно побудет немного вместе с нею и Владиком.
Маша предупредила Наталью Федоровну, что побежит домой, но та ответила, что и она побежит с ней. От неожиданности, от того, что лицо Натальи Федоровны было замкнутое и какое-то иностранное: смуглота, тонкий нос, составляющий прямую с наклоном лба, кольчатые волосы, обрушивающиеся до середины спины, — от того, что почти невзаправдашна была ее судьба, от всего этого Маше представилась подозрительной навязчивость этой женщины.
Но посмотрела на Владьку, который начал весело рассказывать тете об их с Машей путешествии, и подосадовала на себя. Едва проводили Владьку, еще сильней, чем он, стала потешаться над своими энцефалитными страхами.
Отец смутился: был по пояс голый. Он ускользнул из прихожки и, пока они разувались, надел и зашнуровал футболку.
Маше пришлось обедать в одиночестве: Наталья Федоровна отказалась. Было досадно, что ее отец робеет перед Натальей Федоровной. Может, она ему нравится? Дохлебывая окрошку, Маша насторожилась: голос отца, который слышался размыто, стал отчетливым.
— «Нам нужна, — говорит, — критика, поддерживающая авторитет руководителя». Бизин ему: «Было бы что поддерживать». А Трайно: «Демагогия». Как нечем крыть: демагогия. Я и привел пример с особняком. Наискосок от краеведческого музея старинный особняк стоял. Никто в нем не жил, и не ломали.
— Памятник архитектуры?
— Не знаю. У него все нутро завалилось. Уличная стена тоже. И подперли, значит, три остальные стены и потолок бревнами. Чего подпирать, коль внутренность улькнула вниз? Убрать и заменить новым домом. А Трайно: как, мол, можно неодушевленный предмет сопоставлять с человеком. Это не отвечает природе нашего духа. Навострился языком орудовать. Мы с Бизиным сразу на таран: а отвечает-де нашему духу ваше поведение? Чем он может возразить? «Дисциплину не уважаете». Плюнули. Ничего ему не докажешь. Освинцевал мозг. Что не по его, то и вредно. Коллектив ему за слепца, а он сам себя мнит поводырем.
— Чрезмерно волнуетесь вы, Константин Васильевич, — сказала Наталья Федоровна. — Снимут начальника блока. Уже всем, очевидно, что он слишком зауряден. Вот его жена — талантливый энергетик. Она часто бывает у нас в научно-технической библиотеке. Славная. У нее трое детей. Никогда ни на что не посетует. Как только все успевает? Она знает, что ее муж не на месте. Скорей бы, говорит, освобождали… Я поражаюсь… Семейный бюджет изменится, положение мужа изменится…
Опять голос отца:
— Не за личный достаток пекется, и ложное мужево положение ей не нужно. Высокоубежденная, значит. Забота об общем благе. Не то что как некоторые — лишь бы верх держать над людьми и лишь бы темнить, если новая истина на свет просится.
И Маше очень захотелось жить тут, у отца, потому что он беспокойный человек и, вероятно, умеет добиваться справедливости, и никогда не думает, что плетью обуха не перешибешь, и уж конечно он не ходит к магазину, чтобы «нарисовать» с кем-нибудь всеразрешающую бутылку водки.
У Натальи Федоровны белые с прорезями туфли на гвоздиках. Уже по звуку гвоздиков можно определить, что Наталья Федоровна величественная женщина, несмотря на свою хрупкость.
Едва Наталья Федоровна направилась на кухню, Маша поклялась, что к выпускному вечеру купит себе точно такие же туфли. Выплачет у матери, а купит.
Стоя в дверном проеме кухни, Наталья Федоровна подмигнула Маше и крикнула Константину Васильевичу, что намеревается умыкнуть его дочку. Он не возражал. Настроение у него дохлое, только пасмурь на Машу нагонит. Да и надо в садик за Игорешей. Время выходит. И Лизе звякнет по телефону в цех: чего-то она задержалась.
Не сговариваясь, они стали спускаться к морю. При виде разноцветных дебаркадеров, водной равнины, как бы хромированной вечереющим, но еще ярым солнцем, северянка, которая развешивала на барже вышитые кофты, трехпалубного дизель-электрохода, приветствовавшего город гудением, Маша подумала, как прекрасно, что она не сбежала, что встретила сегодня Владьку, что прогуливается с Натальей Федоровной.
Мимо них прошли девушки. Помадные малиновые губы, по верхним векам, над ресницами, черные полосы, от уголков глаз, к вискам, черные отчерки.
Среди молоденьких продавщиц маминого зеркального гастронома тоже есть смазливые девушки. До того иногда намалюкаются — страхолюдины страхолюдинами. Маша подсмеивалась над ними, подражая Стефану Ивановичу: «Опять наваксились, ведьмины ветродуйки?!» Они сердились: малявочка, ничего не смыслишь. Маша смешно показывала, как они выглядят, а потом спросила Наталью Федоровну: права она или нет? Ура! Права! Недаром англичанка Татьяна Петровна находит, что у нее от природы эстетическое чутье. Потеха! Ты думаешь, в тебе ничего нет, а бац — у тебя обнаруживают эстетическое чутье. Прямо не из-за чего: зверюшек слепила из репейника, перелицевала себе в костюм мамино старое платье, оформила в «модерновом» витринном стиле (цветные треугольники, квадраты, загогулины, абрисы предметов, строений) альбом клуба интересных встреч.
Наталья Федоровна за естественность. Вот тебе на! Во Франции, те же продавщицы говорили, и мужчины красятся и делают маникюры-педикюры. Естественность? Любопытно!
Молодость сама по себе — украшение.
Молодость — украшение? Пожалуй. Одобряю.
Важен тщательный уход за собой.
Ого! Уход! Тщательный!
Человека нельзя судить за то, что он стареет и становится менее привлекательным или неприятным, уродливым, потому что это нормально и всякому уготовано. А девчонки, которые прошли, и те, из гастронома, — дико. Не подражай им, Маруся. Ты симпатичная, милая. Возможно, будешь красавицей. Следи за своей внешностью, особенно за волосами. Если бы они были мои, то я имела бы тысячи всяких расчесок, щеток, гребней. Я молилась бы им.
Наталья Федоровна лукаво улыбнулась, чтобы свести свой восторг к полушутке.
— Маруся… Прости, мне нравится не Маша, именно Маруся. Что, Маруся, привыкаешь к отцу?
— Помаленьку.
— Он добрый и заботливый. Мы приехали на родину в пятьдесят восьмом. Здесь у нас никого не было. Он много нам помог. Быт устраивать. Понимать действительность. Мы нуждались в ясности. Мы благодарны ему. Мы слишком мечтали о России, слишком стремились в Россию, чтобы разочаровываться. Но мы страдали бы от миражей, от непривычного в укладе, в обычаях… Мы, например, думали: можно брать продукты в кредит. В первые дни в СССР мы опрометчиво израсходовали деньги на мебель. Мама надеялась взять продукты в кредит. В магазине решили: она тронулась. Твой отец выручил нас.
— К вам он добрый.
Они приближались к дебаркадеру, где вчера ужинали. По отмели в мокрой одежде потерянно брел вчерашний старик, жаловавшийся на кого-то, кто вынудил его бросить дом и сад, и обещавший за это отомстить.
С той минуты, когда Маша увидела старика, в ее сердце возникла боль, неотступно напоминавшая о себе. Теперь эта боль разрослась и затвердела, будто камень. И Маше так стало жалко старика, что она подумала: если у него нет никого на свете, то возьмет и поедет с ним и будет ухаживать, как за родным дедушкой.