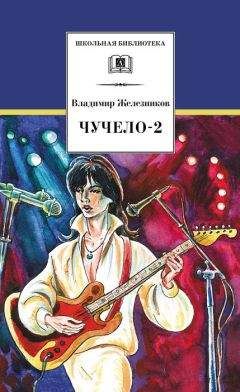забыли.
Сергей Алексеевич пошатнулся, как от удара. Откуда взялся этот человек? И почему он разговаривает с ним, и что это еще за мальчишки, которые стоят рядом и слушают? И как он вообще попал в этот балаган, и как он посмел свое самое святое отдать на уничтожение! Он молча повернулся и, не видя ничего перед собой от гнева, пошел к выходу.
— Сергей Алексеевич! — крикнул Тиссо. — Извините, я не хотел вас обидеть… Вот чудак!
Последние его слова все же проникли в сознание Сергея Алексеевича, и он остановился. Нет, он не уйдет так, он скажет этому человеку все, что думает. Это нелегко, но разве ему вообще когда-нибудь было легко?
Не по той дороге он шел в жизни, на которой могло быть легко, и он гордится этим.
— Что же, по-вашему, — сказал Сергей Алексеевич, — живым жить, а мертвым гнить? Так, по-вашему?
— Я же извинился перед вами, — сказал Тиссо. — И хватит.
— Эх, молодой человек, — сказал Сергей Алексеевич, — нет в вас чего-то самого главного!
— Вы мне мешаете, — сказал Тиссо, прыгнул в седло и поскакал по кругу.
Коля подошел к Сергею Алексеевичу и сказал:
— Идемте, — и взял его под руку.
И эта теплая, крепкая мальчишеская рука заново повернула его к жизни, и тот голос, который только что звучал в нем: «Зачем я это все им рассказал», начал в нем затухать, хотя лицо его по-прежнему было сурово.
Когда они вышли на улицу и смешались с толпой, Коля, который горел нетерпением побыстрее объясниться, сказал:
— Здорово, что вы не уехали… — Нет, его слова сейчас прозвучали слишком нелепо. — А кенар ваш в полном здравии. — Опять что-то не то, и Коля уже по инерции тихонько добавил: — Распелся сегодня, раскричался, меня утром разбудил. — И вдруг: — Вы не верьте ему… тому… в цирке. — Он не хотел даже произносить его фамилию. — Он неправду сказал. Я вот так не думаю. И никто не думает.
И симпатия к Тиссо у него сменилась острой неприязнью. Он был легок в своих переходах в отношении к людям, он был скор на руку и ненавидел всякое предательство.
Сергей Алексеевич ничего не ответил, но все же подумал, что у Коли душа горяча и честна, как у Витьки, и ему было приятно, что в нем он не ошибся. Он повернулся к мальчику, опустил ему руку на голову и сказал:
— Волосы у него были белые, как солома. Жили мы вдвоем. Его мать умерла, когда он был совсем маленьким, и я сам за ним ухаживал. В общем, ему было нелегко: то я уезжал в командировку, то на полевые учения. А он сам готовил себе еду, сам стирал белье. Жили мы в Белоруссии, на границе. И вдруг меня вызвали в Москву и предложили поехать в Испанию. А там в то время была война — революционеры дрались с фашистами, их там называли фалангисты. В Испании я провоевал год… Женился на девушке — испанке из нашей бригады…
Сергей Алексеевич замолчал.
А видел он зимнюю проселочную дорогу и себя с Лусией, сидящих в санях. Это они едут в интернат за Витькой. Он помнит и бережно разбирает каждый свой жест и слово из того далекого, сладостного, благополучного времени.
Он вылез из саней, отряхнулся от сена, краешком глаза прошелся по окнам, не выглядывает ли там где-нибудь Витька, и почувствовал, что сердце у него почти остановилось от напряжения, точь-в-точь как в последний миг перед атакой. Но он все старался делать медленно, чтобы не выдать себя перед Лусией. Он потер уши — крепкий был мороз, — потом помог выйти из саней Лусии, посмотрел на нее, и ему стало весело. Лусия была так укутана, что не видно было ее лица, торчал только кончик носа и большие черные глаза. В вестибюле интерната их встретила женщина-вахтер, посмотрела на них и спросила:
«Князевы или Малинины?»
«Князевы, — ответил он. В пустом вестибюле голоса громко и неестественно резонируют, и ему тогда показалось, что дом пуст и он сейчас не увидит Витьки, и он не выдержал и спросил: — А что это у вас так тихо?»
«Каникулы, — ответила женщина. — Только двое остались: ваш и Малинина. Идемте, я вас провожу…»
И в ту же секунду в конце длинного коридора интерната, который заканчивался окном, появились две стремительно бегущие фигурки. Они до сих пор стоят у него перед глазами, а в ушах звучит топот их ног. Они бежали рядом, Витька и какая-то девочка, еще, видно, не зная, за кем из них приехали долгожданные родители, и, хотя ему нестерпимо было радостно встретить наконец Витьку, какое-то щемящее чувство тревоги охватило его при виде этой чужой, незнакомой девочки, дочери неизвестного ему Малинина.
Они остановились, и девочка, которая бежала к ним навстречу, поняла свою ошибку и тоже остановилась, а Витька без слов, без радостных восклицаний бросился к нему.
Ростом он стал повыше, а плечики на ощупь такие же худенькие были, и спинка тоненькая, и гнулась от малейшего прикосновения, и пахло от него забытым мальчишеским теплом, и острижен он был наголо.
«Ну успокойся, — сказал он Витьке. — Что это тебя остригли?»
Витька ему ничего не ответил и не оторвал от его груди головы, видно, боялся расплакаться.
«Корью он у нас переболел», — вмешалась женщина.
Лусия стояла рядом, скинув платок на плечи, и исподтишка изучала Витьку.
Он случайно перехватил взгляд девочки, и она застеснялась и немного отошла назад и снова остановилась, прислонившись к стене.
Он помнит, Лусия тронула его за рукав, и ему почудилось, что у нее и у той девочки у стены одинаковые испуганные глаза.
«А вот это Лусия, — сказал он Витьке. — Она будет жить с нами».
Витька с подозрением посмотрел на Лусию. Та протянула к нему руку, хотела погладить по голове, но Витька резко отстранился, и ее рука повисла в воздухе.
«Она хорошая, — сказал он. — Придется тебе взять над ней шефство».
Нет, и это на Витьку тогда не подействовало, и он почувствовал себя неловко перед этой девочкой, которая смотрела на него с такой грустью, точно он был виноват, что приехал и увозит от нее последнего ее дружка, и перед женщиной. И он громко сказал:
«Она испанка. — Тогда это были магические слова. — По-русски говорит плохо».
И Лусия порывисто обняла Витьку, как самого близкого человека, как сынишку, которого давно не видела и вдруг снова нашла. Она всегда была порывистой и правдивой и не думала, вернее, у нее